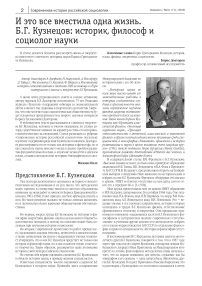И это все вместила одна жизнь
Автор: Докторов Борис Зусманович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Современная история российской социологии
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье делается попытка рассмотреть жизнь и творчество известного советского историка науки Бориса Григорьевича Кузнецова.
Борис григорьевич кузнецов, история, наука, физика, энергетика, социология
Короткий адрес: https://sciup.org/142182181
IDR: 142182181
Текст научной статьи И это все вместила одна жизнь
Более двух лет назад петербургский социолог Андрей Алексеев разместил в своем блоге на сайте Когита. Ру пост, озаглавленный «Бессмертие мыслителя, как условие и как часть бессмертия научных представлений» [5]. Это была подборка текстов, знакомящих читателей с жизнью и направлениями исследований Б. Г. Кузнецова, и в частности, там был фрагмент его статьи: «Жизнь Эйнштейна и его бессмертие».
Я не скрываю, более того, неоднократно отмечал, что Кузнецов был двоюродным братом моей матери, значит — моим двоюродным дядей. И для меня были неожиданными, но потому еще более приятными слова Алексеева: «Статья Б. Кузнецова об Эйнштейне — прекрасна. Между прочим, если бы не ссылка, я бы счел, что это Ты написал. Степень Вашего созвучия в биографических и науковедческих сюжетах чрезвычайна. (Кому комплимент? Дядюшке или племяннику?)…».
Мои исторические изыскания начались в первых 2000-х с анализа зарождения и развития технологии и культуры американских опросов общественного мнения. Причем работа сразу имела историко-биографическую окрашенность, т.е. и предыстория изучения общественного мнения, и возникновение методов его измерения рассматривались не сами по себе, а как продукт, результат деятельности конкретных людей. И здесь очевидно, что при изучении генезиса общественного интере- са к установкам населения, прежде всего — потребителей, мне приходилось обращаться к биографиям не ученых, аналитиков, их еще не было, а тех деловых людей, успешность бизнеса которых — торговля, реклама, журналистика — определялась знанием, пониманием потребительских и другого рода установок простых американцев. Затем в центре моего внимания оказалась биография и наследие Джорджа Гэллапа, основателя научной методологии опросов общественного мнения, и его коллег, стоявших у истоков этой области социальных наук. Поскольку с начала 1970-х до конца 1980-х, я занимался методами сбора и анализа данных об общественном мнении и участвовал во многих опросах населения Ленинграда и Союза, я не испытывал больших сложностей при чтении американской литературы по изучению читательских интересов и первых опытов выборочного изучения установок американского электората, но я довольно быстро ощутил отсутствие опыта анализа биографических материалов. И, естественно, я обратился к книгам Кузнецова, которые на протяжении многих лет читал «просто так», из интереса и которые привез с собой в Америку, не потому, что предполагал заниматься историй науки, а для связи с прошлым. Обращение к этим книгам, конечно же, стимулировало мои воспоминания о наших с ним беседах у него дома и, как это часто бывает, оживали и общая атмосфера общения с Борисом Григорьевичем (далее — Б.Г.), и его рассказы о текущей работе, и его размышления об истории науки. Содержание перечитываемых книг порождало воспоминания о сказанном Б.Г., а всплывавшие в памяти обрывки разговоров, заставляли заново обращаться к книгам... все это как-то синтезировалось, порождая уже логику моих собственных историкобиографических построений и стиль моего письма.
Через несколько лет к работе по американской тематике добавилось изучение истории советской социологии, и входом в эту новую для меня область стала статья о жизни и исследованиях Б.А. Грушина, который в то время активно развивал свой известный проект «Четыре жизни России». Другими словами, базой нового поиска стал историко-биографический подход, а не, скажем, институциональный или предметный. Обращаясь к прошлому, я не могу сказать, что подобный выбор стал следствием моих долгих размышлений или обсуждений с коллегами, это было интуитивное решение, уже впитавшее в себя проверенное на собственном опыте понимание исследовательской методологии Кузнецова. В его анализе динамики науки, прежде всего, физики — присутствуют, действуют Лукреций, Эпикур и Аристотель, а что касается Галилея, Декарта, Ньютона и Спинозы, то они просто — наши старшие современники. Кроме того, в центре его внимания находились вопросы формирования картины мира, вечные проблемы физики, тогда как я анализировал вопросы значительно более частного характера и изучал жизнь ученых нашего времени, многих из которых я знал на протяжении нескольких десятилетий.
Но я сразу исходил из того, что историологический (а не историографический) подход к науке Кузнецова и его био-логическая (соединение «Био» и «Логос»), а не био-графическая интерпретацию прошлого науки и творчества ученых применимы и при анализе генезиса и развития российской послевоенной социологии. Им написано множество трудов по эволюции физических идей и большое число биографий выдающихся ученых, в них может быть прослежена методология его работы, но он нигде не раскрывал ее, не описывал. И в этом смысле я могу говорить не об использовании его подходов, но лишь о стремлении понять их и действовать в пространстве его исследовательских координат. К примеру, в одной из его последних книг — «Идеалы современной науки» говорится о спрессо-ванности в настоящем прошлого и будущего, и я помню, как очень давно размышлял о возможных логических, познавательных следствиях этого утверждения. Не это ли стремление понять природу настоящего привели меня в начале моего исторического исследования к понятию «толстого настоящего», лежащего в обосновании моей интерпретации «современности»?
И во многом именно к Кузнецову восходят мое понимание и моя уверенность в том, что главное в науке — исследователь, и потому я достаточно быстро обозначил создаваемую мною картину истории современной советской/российской социологии «человекоцентричной». Эта «человекоцентричность» обнаруживается во многом, и в частности, в том, что важнейшей составляющей моих поисков стали собственно биографические исследования и тексты. Возвращаясь к изучению становления технологии и методологии американских исследований общественного мнения, я отмечу статьи о Джордже Гэллапе, Арчибальде Кроссли, Хедли Кэнтриле, Дэвиде Огилви, Элмо Роупере, Эмиле Хурье и других первопроходцах изучения мнений населения Америки. Эта исследовательская линия четко просматривается и в изучении истории российской социологии. Вслед за статьей о Б.А. Грушине появилась серия разного жанра материалов о социологах разных поколений. Самые крупные по объему — это статьи о: А.Н. Алексееве, Г.С. Батыгине, В.Б. Голофасте, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслове, И.С. Коне, Б.М. Фирсове, В.Э. Шляпентоне, В.А. Ядове. Позже появились книги: «Джордж Гэллап. Биография и судьба» (2011), «Все мы вышли из «Грушинской шинели»» (2014) и «Мир Владимира Ядова» (2016). Поскольку в российской социологической литературе нет традиции биографических книг об отечественных ученых, известным ориентиром для меня были работы Кузнецова.
Моя первая попытка указать на влияние работ Б.Г. на формирование методологии моих историко-социологических поисков относится к середине 2007 г. [6]. И несколько лет назад я начал собирать материалы, относящиеся к его биографии, в надежде полнее понять природу, содержание и характер его творчества. В силу многих обстоятельств делается это очень медленно и с большим трудом. Я живу в Америке, а материалы, которые, возможно, не пропали полностью, находятся в Москве. К тому же я никогда не принадлежал к сообществу историков и социологов науки, и не знал, к кому я мог обратиться за помощью. Тем не менее, работа продвигается: мои московские коллеги помогли мне получить некоторую информацию из Института истории естествознания и техники РАН, одним из создателей которого был Б.Г. и в котором проработал около полувека. Так в моем архиве оказалась ценнейшая для биографа информация — «Личный листок по учету кадров», «Автобиография» и Список научных трудов, подписанные Кузнецовым 4 сентября 1968 г. Интернет помог установить контакты с людьми, знавшими Б.Г., и они активно, заинтересованно поделились со мною своими воспоминаниями.
Но все же главный источник именно биографической информации о жизненном пути Б.Г. — это его книги. В подготавливаемом мною списке его публикаций уже более полусотни книг и это, не считая переизданий, переводов на многие языки и работ, опубликованных на Западе. Первая книга в этом списке — «Об «организационном капитализме»», написанная Кузнецовым совместно с его еще юношеским другом Михаилом Тайцем, — опубликована в 1930 г., последняя — в год его смерти, в 1984 г. Очевидно, даже количественная сторона написанного Кузнецовым — факт не только статистический, но и биографический; это показатель его высочайшей включенности в дело и прижизненного признания его творчества. Его коллега и друг, физик В.Я. Френкель, заметил, что в Институте истории естествознания и техники Кузнецов прошел «инверсный путь»: от исполняющего обязанности директора, заведующего сектором и до старшего научного сотрудника.
Поначалу, в опоре на воспоминания Б.Г. о его встречах с В.И. Вернадским, я видел лишь одну причину его высочайшей сосредоточенности на исследованиях по истории и философии науки — «страхе смерти». Ниже будет показано, что под этим Вернадский, а позже Б.Г. понимали невозможность закон- чить задуманное дело. Но в процессе перечитывания работ Б.Г. мне стало ясно, что «страх смерти» не мог быть главным стимулом, импульсом исследований Б.Г. (скорее всего, и Вернадского). Многократно важнее — радость познания и соответственно радость бытия, «которую ощущает ученый, когда у него блеснет новая мысль и вместе с ней откроется еще не познанное — предмет новых размышлений. Это момент, когда мыслитель не думает о себе, но вместе с тем ощущает смысл своей жизни» [6, с. 254]. Не могу удержаться, чтобы не подчеркнуть, что эти слова были сказаны Кузнецовым на последней странице его последней книги.
В моем анализе жизни и деятельности человека я выделяю этап его предбиографии, собственно — биографию и постбиографию. К первому периоду относится все, характеризующее семью и среду, в которой человек родился. К сожалению, пока мое знание предбиографии Б.Г. весьма поверхностно, но известное мне представлено ниже.
Биография — это все, что происходило с человеком, среда его жизни, коммуникационный мир, направления и результаты его деятельности. Годы жизни Б.Г. вместили очень многое. В 14 лет, то поколение взрослело быстро, он встретил революцию, участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, получил высшее техническое, историческое и экономическое образование, принимал активное участие в таких масштабных событиях, как реализация плана ГОЭЛРО и перемещение в 1941 году важнейших промышленных отраслей из Европейской части страны в Зауралье. Он — один из создателей Института истории естествознания и техники РАН, встречался и обсуждал ключевые вопросы истории и будущего науки с выдающимися российскими и зарубежными учеными 20 столетия, многие годы посвятил изучению биографии Эйнштейна, писал о Бруно, Галилее, Ньютоне, Ломоносове, Менделееве и о других крупнейших естествоиспытателях разных времен.
Можно говорить о трех этапах его исследовательской деятельности. Конец 1920-х — первая половина 1930-х; вопросы развития энергетики и история энергетики; вторая половина 1930-х — первая половина 1950-х (исключая годы войны) — российская история естествознания; и далее — до начала 1980х история и философия науки, прежде всего — физики.
После смерти Б.Г. Кузнецова прошло тридцать лет, по историческим меркам, период небольшой, но все же достаточно заметный, чтобы анализировать его постбиографию и говорить о значении сделанного им. Прежде всего, отмечу факт активного освоение историко-философского и общекультурологического наследия Кузнецова. Даже беглый обзор содержания Интернета обнаруживает множество авторефератов докторских и кандидатских диссертаций, защищавшихся в последние годы по разным направлениям философских исследований, в которых авторы ссылаются на работы Кузнецова. Назову некоторые из них: «Осуществление плана ГОЭЛРО и электрификация промышленности» (1984 г.), «Философский анализ потенциала науки» и «Поэтическое творчество Микеланджело Буонаротти (Проблемы становления личности автора и героя)» (1990 г), «Проблема причинности: история и теория» (1995 г.), «Этнокультурная обусловленность выбора научной парадигмы: Проблемы энергетики как предмет методологической рефлексии» (1998 г.), «Неклассический образ науки в российской культуре» (2000 г.), «Онтология пространства и времени в теории относительности» (2001 г.), «Проблема синтеза физической картины мира в философии науки XX века» и «Отношение мировоззрения и философии к научной картине мира: феноменологогерменевтический анализ» (2003), «Проблема стиля мышления в научном познании», Философско-гносеологический анализ феномена интуиции», и «Стиль и стилизация в философско-культурологическом контексте» (2006), «Феномен гипотезы в естественнонаучном познании» и «Рецепции представлений о пространстве и времени в художественной культуре» (2007 г.), «Квазитеологические концепты картезианской метафизики»
(2008 г.), «Становленення та развиток статистной фiзики в Ук-раїні (30-60 рр. ХХ ст.)» и «Поэтика станкового пейзажа. Культурологический анализ» (2009 г.)», «Семиотика языка науки в системном анализе научного знания», «Проблема объективности научного знания в развитии познавательной деятельности», «Идея человека в западноевропейской философии» и «Космология в культуре: философско-антропологическое осмысление» (2011 г.), «Эмпирический опыт и его место в познавательной деятельности» (2012 г.), «Учение Б. Спинозы в контексте философских исследований (историко-методологический анализ)» (2013 г.) и другие.
На внимание к наследию Кузнецова указывает и то обстоятельство, что его работы присутствуют в списках рекомендуемой аспирантам и студентам литературы по курсам: «История и философия науки», «История и методология науки», «История физики», «Концепция современного естествознания», «Культурология».
Отмечу также, что мне известно около десяти статей историко-биографической направленности, дающих представление о жизни и работах Кузнецова, прежде всего в области истории науки. Так что сделанное Кузнецовым продолжает интересовать специалистов, с его наследием знакомятся историки науки и философы новых поколений.
И последний, но столь же значимый в рассматриваемом ряду момент — книги Б.Г., не романы и не стихи, а сложные историко-философские работы, востребованы. Так, «Вики» в статье «Кузнецов, Борис Григорьевич», приводит заголовки девяти его книг, переизданных в 2007-2010 гг. И это далеко не все, например, в 2014 г. была переиздана «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии», в 2015 г. — две книги: «Развитие научной картины мира в физике XVII-XVIII вв.» и «История философии для физиков и математиков» и еще три — в 2016 г.: «Физика и экономика», «Джордано Бруно и генезис классической науки» и «Эволюция картины мира». И если «Физика и экономика» — небольшая работа (88 стр.), то среди переизданных есть книги, объемом в 350 и более страниц. К тому же «Развитие научной картины мира в физике XVII-XVIII вв.» и «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» впервые были изданы в 1955 г. и 1957 гг., т.е. 60 лет назад. Таким образом, кроме всего прочего, Б.Г. можно рассматривать и как ученого, внесшего заметный вклад в популяризацию языка и достижений современной науки, другими словами, — в формирование интеллектуальной культуры российского общества.
И в целом, справедливо сказать, что Б.Г. Кузнецов — ученый не только нашего прошлого, он — и наш современник. Более того, он будет интересен и в будущем.
Я вижу множество целей в работе над биографией Б.Г. Кузнецова. Отмечу лишь три из них.
Во-первых, необходимо подробнее, обстоятельнее, чем это сделано другими авторами, описать жизненную траекторию Б.Г.. Она сама по себе уникальна, к тому же, поскольку я давно изучаю феномен «биографичности творчества», я надеюсь, что его биография позже подведет меня к обнаружению пока не известных мне граней этого феномена — одного из мало изученных механизмов научного творчества.
Во-вторых, мне бы хотелось, если не описать, то понять, в чем же был эффект бесед с Б.Г.. Ведь все они состоялись, когда я не предполагал заниматься историей науки, но влияние они оказали на меня огромное. И замечу, эту его способность отмечали многие.
И третья цель возникла в процессе перечитывания работ Кузнецова, когда я заметил в них то, чего не видели его коллеги и не замечал раньше я. Выше я указал три этапа в исследовательской практике Кузнецова, но так случилось, и это естественно и объяснимо, что в его послевоенных книгах он предстает, прежде всего, как историк и философ науки, и создается впечатление, что таким он «был всегда», и потому не может быть иной точки зрения на его наследие. Но, как показывает историко-биографический анализ, он не был (не мог быть) таким всегда, таким он стал. И важно понять, как это произошло, под влиянием каких обстоятельств. Целостное рассмотрение опубликованного Б.Г. обнаруживает, что он был не только историком и философом науки, но и очень интересным для советского времени социологом науки. Ниже я постараюсь обосновать сделанное утверждение, но сейчас проиллюстрирую сказанное одним примером.
Приведу названия нескольких книг Кузнецова, опубликованных во второй половине 1950-х — первой половине 1960х.: «Развитие научной картины мира в физике XVII-XVIII века» (1955 г.), «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957 г.), «Принципы классической физики» (1958), «Эволюция картины мира» (1961 г.), «Эйнштейн» (1962 г.), «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963 г.), «Галилей» (1964), «Очерки физической атомистики XX века» (1966 г.). Все заголовки книг указывают на то, что в них анализируется становление и эволюция современной физики, исследуется творчество выдающихся физиков. Другими словами, очевидна их историко-научная направленность.
Теперь рассмотрим заголовки ряда монографий Кузнецова конца 1960-х — начала 1980-х: «Физика и экономика» (1967 г.), «Джордано Бруно и генезис классической науки» (1970 г.), «Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики» (1971 г.), «Философия оптимизма» (1972 г.), «Разум и бытие» (1973 г.), «Ценность познания: Очерки современной теории науки» (1975 г.), «Этюды о меганауке» (1982 г.), «Идеалы современной науки» (1983 г.). Безусловно, здесь тоже присутствует физика, но здесь иной, не «узко» исторический подход, здесь в центре анализа — движение науки, ее генезис, ее ценности и идеалы. А это уже — категории социальной философии и социологии. В своей «итоговой» книге Кузнецов так определил предмет своих многолетних исследований: «История науки — это тот элемент всеобщей истории, для которого особенно важен критерий ценности, критерий эффекта, критерий воздействия науки на общий необратимый прогресс цивилизации» [7, с. 239].
Отмечу здесь и удивительную, «странную» даже для Б.Г., максимально свободного в своих рассуждениях, книгу «Путешествия через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» (1975 г.). В определенном смысле ее можно рассматривать в одном ряду с вышедшей в тот же год «Ценность познания», но она сделана в принципиально ином ключе, в иной стилистике. Фантастический сюжет, появление машины времени позволили Кузнецову исключить из своего анализа время как физическую величину, оставив за ним лишь его «социальную насыщенность». Таким образом, ему удалось показать вневременной, т.е. независимый от времени характер ценностей и идеалов науки. В частности, книга свидетельствует, что деятельность Кузнецова в начале 1930-х годов по решению проблем электрификации страны можно трактовать как начало его социологического понимания науки. Странно, что на социологический аспект работ Б.Г. разных лет не обращали внимание авторы материалов о его жизни и его исследованиях. А ведь социологичность его работ естественна, и не только потому, что он учился и входил в науку в период, когда социологизация была одним из трендов научных исследований, но и потому, что как ученый, историк науки он формировался в кругу Н.И. Бухарина, В.И. Вернадского, Г.М. Кржижановского, Т.И. Райнова, которые в наше время признаются пионерами российской социологии науки.
О научной смелости и независимости Кузнецова говорит следующий факт, приведенный в цитировавшейся выше статье С.С. Илизарова. Во второй половине 1970-х, т.е. задолго до того, как имя Н.И. Бухарина вернулось в нашу культуру, Илизаров изучал прошлое ИИЕТ и чувствовал некую недоговоренность в доступных ему описаниях событий 20-30-х годов. Тогда ему посоветовали поговорить с Б.Г. Кузнецовым, знавшим, что было в довоенное время. И вот, вспоминает Илизаров: «В актовом зале в памятном Старопанском переулке и проходила моя беседа с собеседником В.И. Вернадского [БД: о беседах Кузнецова с Вернадским см. ниже]. У меня сохранился листок с обрывочными записями. Б.Г. Кузнецов безусловно понимал, что перед ним сидит совершенный невежда в тех сюжетах, о которых шла беседа, но по своему обыкновению был терпелив, снисходителен, мягок, улыбчив и доброжелателен» [4, с. 104].
В моем понимании, Б.Г. Кузнецов — один из представителей пока мало известного нам типа «неопознанных», или «нераспознанных», отечественных социологов. Очевидно, что в 30-50е он не мог позиционировать себя в качестве социолога (науки, культуры, времени), а позже, думается мне, советская социология и не признала бы его как социолога. Тогда наша заново рождавшаяся социология не была готова к этому. Но теперь — созрела.
Первые 30 лет жизни: успешный, но незавершенный поиск себя
Рассмотрение периода 1930-х удобнее продолжить после рассказа о нетривиальным по нынешним временам пути Кузнецова к образованию. И что интересно, при ознакомлении с этим сюжетом может сложиться впечатление, что Б.Г. уже в юности знал, кем он будет, и целенаправленно готовил себя к исследованиям по истории науки. А ведь лишь много позже он прочел у Ларисы Рейснер утверждение, которое он перефразировал следующим образом: «Если у Вас слишком много различных научных склонностей, то еще не все потеряно: Вы можете стать историком науки» [8, с. 34].
В некрологе, написанном В.С. Кирсановым и С.Р. Филоновичем, отмечено: «Исключенный из реального училища за участие в революционном движении, он смог продолжить образование, лишь вернувшись с гражданской войны» [9, с. 111].
У меня нет документального подтверждения этого утверждения, но в силу ряда причин я склонен считать его верным. Раскрою эти причины, в частности, чтобы показать лабораторию, или кухню, моей работы.
Прежде всего, приведенные выше слова казались мне правдоподобными, поскольку одним из авторов статьи, в которой я их прочел, был Владимир Семенович Кирсанов, многолетний сотрудник и друг Кузнецова, с детства знавший его. Он был сыном известного поэта Семена Исааковича Кирсанова (19061972), с ним Б.Г. дружил с молодых лет и до смерти поэта.
Была еще одна причина отнестись с доверием к рассматриваемым словам, о ней скажу ниже, а сейчас — о поиске. Я не знал соавтора В. Кирсанова Сергея Ростиславовича Филоновича, но решил поискать информацию о нем в Интернете и попытаться связаться с ним. Это оказалось совсем нетрудно, С.Р. Филонович — доктор физико-математических наук, специалист в области истории физики и социолог, декан Высшей школы менеджмента «Высшей школы экономики». Обнаружив это, я 4 марта 2016 года отправил ему «мейл», представился, сообщил, что пишу статью о Б.Г. Кузнецове и спросил его, знал ли он Кузнецова и откуда информация об исключении Б.Г. из реального училища.
Уже 6 марта я получаю ответ, из которого узнаю, что Филоновича связывали с Б.Г. довольно близкие отношения. И далее он сообщает: «Возможно, в одной из бесед с Б.Г. я и узнал об истории, касающейся его исключения из реального училища. Но память несовершенна: вполне возможно, что эта информация исходила от В.С. Кирсанова, который знал Б.Г. с детства. Наконец, самая невероятная гипотеза состоит в том, что об исключении Б.Г. я мог узнать от своего учителя по педагогическому институту им. Ленина, профессора Николая Николаевича Малова, ровесника Б.Г., отец которого, со слов Б.Г., был директором того самого реального училища, где учился Б.Г. Мир тесен!». Да, действительно, «Мир тесен».
И вот — третий аргумент в обоснование моего доверия утверждению Кирсанова и Филоновича, он в целом соотносится с тем, что мне известно из семейной хроники. Я помню дореволюционную на толстом картоне фотографию, на которой изображены два сорванца в мундирчиках реалистов: Борис и Моисей Шапиро. Братья были двойняшками и на протяжении всей жизни сохраняли глубокую дружбу. Еще школьником я знал, что у меня есть два дяди — родные братья и удивлялся, почему один из них — Борис Григорьевич Кузнецов (он жил в Москве), а другой — он тогда был военно-морским инженером и служил в Либаве (теперь — Лиепая, Латвия) — Моисей Соломонович Шапиро. По воспоминаниям моей мамы, в годы Гражданской войны Борис, по совету комиссара отряда или командира (скорее всего, Кузнецова) сменил еврейскую фамилию Шапиро на русскую Кузнецов и отчество Соломонович на Григорьевич. Вряд ли это спасло бы его, окажись он в плену у махновцев, но все же было не столь вызывающим. При этом он не менял своей национальности, в «Личном листке по учету кадров» указано — еврей.
Далее все становится более определенным, документированным, ибо процесс получения высшего образования отражен в «Личном листке». В 1920 году Кузнецов поступил на электротехнический факультет Политехнического института в Днепропетровске (до 1926 года город назывался Екатериносла-вом), который закончил в 1925 году. Практически одновременно, с 1922 по 1927 годы, он учился на историческом факультете Университета в Днепропетровске. Другими словами, уже в ранней молодости Кузнецова привлекали к себе физика и техника, а также — история.
Что еще вместили в себя эти годы? С марта 1921 по октябрь 1922 гг. Кузнецов, лишь в октябре 1923 года ему исполнится 20 лет, служил помощником начальника учебной части 33 пехотных курсов. Возможно, этот факт подтверждает то, что у него был некий опыт участия в боевых операциях, так как трудно допустить, чтобы молодых бойцов обучал человек совсем «со стороны». С октября 1922 до августа 1924 гг. он — лектор одного из райкомов КП(б) Украины. Возможно, там он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии. Затем три года, с августа 1924 по июль 1927 гг. Кузнецов, будучи еще студентом двух ВУЗов, работал преподавателем Совпартшколы, и в 1925 году он становится членом КП(б) Украины.
Окончив университет, вчерашний студент и одновременно — опытный преподаватель Кузнецов уезжает в Москву, и с 19271930 гг. обучался в аспирантуре Экономического института Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). При этом практически все это время он преподавал в Промакадемии, вскоре ставшей кузницей ранней советской номенклатуры.
Итак, «десятилетка» (1920-1930 гг.) Кузнецова была более чем интенсивной и эффективной в плане накопления и передачи знаний. Он входил в нее — провинциальным юношей, влекомым идеями о коммунизме, еще до революции читавшим книгу по экономике известного народовольца А.Н Баха и увлекавшимся идеями М.А. Бакунина. И он завершил ее молодым московским интеллигентом, ориентировавшимся во многих вопросах математики, физики и техники, истории и экономики. Добавлю, мама Бориса и Моисея (дома — Муся), Анна Марковна Шапиро родилась в 1870 г., подчеркивала, что была ровесницей Ленина, прожила почти сто лет и всегда сохраняла отличную память. Она училась во Франции или Бельгии, в совершенстве знала французский язык и всегда на ее столике у кровати была какая-либо французская книга. Мне запомнился один разговор с ней, она тогда читала первое издание книги Кузнецова «Эйнштейн» и сказала мне: «Я всегда знала, что Муся очень хорошо пишет, но оказывается, Боря — тоже».
Мама обучила сыновей французскому языку, и Б.Г. всю жизнь был франкоманом, любил и знал Париж, французскую историю и культуру. Это способствовало тому, что уже в послевоенный период он обсуждал серьезнейшие научные и гуманистические проблемы с Фредериком Жолио-Кюри и Луи де Бройлем, дружил с Александром Койре и Ильей Пригожиным, которым, несмотря на их русские корни, много легче было говорить по-французски. В добрых отношениях он был также с Эльзой Триоле и Луи Арагоном.
В аспирантуре РАНИОН Кузнецов учился одновременно с будущим известным историком Великой Французской революции и биографом Наполеона А.З. Манфредом. Они поселились в одной комнате общежития, и их знание социально-политической истории Франции, их любовь к культуре этой страны, Манфред с раннего детства прекрасно знал французский язык, соединили их на всю жизнь [8, с. 65-74].
Внимание Кузнецова к развитию французской науки просматривается на протяжении всей его жизни. В 1937 году он опубликовал в «Правде» статью «Декарт и русская наука» [10], а через 30 лет — совместно с известным историком науки И.Б. Погребысским — книгу «Французская наука и современная физика» (1967 г.)
Безусловно, считая мощный профессиональный и гражданский рост Б.Г. его личным достижением, необходимо все же видеть в этом и «поколенческое» начало, он — из той генерации, которая восприняла вызовы революции, времени и быстро взрослела. В качестве примера назову близких друзей Бориса и Моисея трех братьев Тайцев; их дружба началась в ранние 1920-е еще в Екатеринославе. Старший брат, профессор Ной Юриевич Тайц (1896-1974), всю жизнь прожил в Днепропетровске, стал мировой известности металлургом, автором многих учебников, основателем электротермической школы в металлургии. Трагически сложилась судьба среднего брата — Михаила Тайца (1902-1941), он в совершенстве знал французский и немецкий языки, уже в 18 лет вступил в партию. Он много лет работал с А.П. Розенгольцем (1889-1937), крупным военным чиновником правительства В.И.Ленина, полпредом в Великобритании и наркомом внешней торговли СССР. По поручению Розенгольца, Михаил Тайц служил в советском посольстве в Германии, отвечая за закупки цветных металлов. Можно допустить, что он хорошо знал экономику, во всяком случае, с ним в 1930 г. Кузнецовым была написана его первая книга «Об «организационном капитализме»». В 1933 г. Михаил Тайц вернулся в Москву и работал в главном центре идеологии после ЦК ВКПб: Институте Маркса-Энгельса-Ленина. А далее: 29 июля 1939 года он был арестован и 18 июня 1941 года — расстрелян.
Третий брат — Аркадий Тайц (1906-1995) тоже был металлургом. После окончания института в Донецке работал в Ленинграде в аллюминиево-магниевой индустрии, все шло успешно. Но, начиная с 1934-1935 гг., жизнь стала невыносимой из-за страха доносов, обвинений во вредительстве или идеологическом преступлении, усмотренном в неточном высказывании. В архиве его сына, Дмитрия Тайца, физика, живущего в Петербурге, сохранились два письма, показывающие, как друзья Аркадия спасали его жизнь. Автором первого — является Б.Г., второго — друг Тайца, всемогущий организатор советской металлургии Петр Фадеевич Ломако.
В Свердловский РК ВКПб
По просьбе А.Ю. Тайца сообщаю, что я в 1923-1927 г. работал в Днепропетровске, хорошо знал его и могу подтвердить, что Манусов, Пятакова и Перлин не являлись его друзьями.
Член ВКПб п.б. 0049336. Организация И-та Ист.Техни-ки
Киевского района г. Москвы. Б. Кузнецов 2/Х-1937 г.
Письмо от 15 ноября 1939 г. № Л-791 (с гербом) из «Народного Комиссариата цветной металлургии СССР, на имя А.Ю.
Тайца и директора Всесоюзного алюминево-магниевого института (А. Д. Ходыко):
Предлагаю откомандировать на КМЗ (Урал) сроком до 2-х лет главного инженера проекта т. Тайца А.Ю. для использования на руководящей работе КМЗ.
Заместитель народного комиссара цветной металлургии П.Ломако.
Все и всё понимали, распоряжение Ломако было исполнено даже до того, как письмо пришло в Ленинград. Запись в трудовой книжке А.Ю. Тайца: «Освобожден ВАМИ 15 ноября». Приступил к работе на КМЗ (Урал) 15 ноября». Мгновенное «исчезновение» из Ленинграда!
Теперь, развивая утверждение о том, что в 20-е-30-е годы в культуру вошло много талантливой молодежи, рассмотрю еще одну грань коммуникационного пространства Кузнецова. Это поможет лучше представить его внутренний мир и — думаю — приблизиться к раскрытию каких-то сторон его творчества. Конечно, речь не может идти о специфике его собственно историко-научных построений и его трактовках сложнейших вопросов эволюции картины мира. Но, с другой стороны, творчество ученого всегда пронизано какими-то глубокими личностными, интимными воспоминаниями, оно глубоко биографично.
Все, о чем я пишу, было давно, многое потеряно навсегда, но все же, кое-что о жизни Б.Г. в Москве 1930-х (не имеется в виду его работа и собственно деловые связи) еще может быть с той или иной степенью правдоподобия реконструировано.
Из троих братьев Тайцев Б.Г. был наиболее близок с Михаилом, который дружил с поэтом Ильей Сельвинским и, по рассказам знающих людей, встречался с Маяковским. Не имея пока никаких других «зацепок», допускаю, что именно Михаил познакомил Кузнецова с Семеном Кирсановым. Они были ровесниками, воспитывались в еврейских семьях, оба приехали в Москву из крупных культурных центров Украины (Днепропетровск и Одесса) в середине 1920-х. Их московские дороги вполне могли пересечься.
Мой интерес к истории знакомства Б.Г. и Семена Кирсанова вызван тем, что из этой «точки» можно перейти к освещению некоторых сторон жизни Б.Г., крайне важных для понимания его мира, в частности — круга его московских друзей. Осенью 2015 года мои поиски помогли мне познакомиться с Ольгой Хазовой, вдовой Владимира Кирсанова, сына поэта. В одном из своих писем я спросил ее: «... что могло на протяжении многих лет притягивать Семена Кирсанова и Бориса Кузнецова? Все же они — из разных социальных страт: поэтической (литературной) и академической...». Она написала мне: «Поскольку я много встречалась с Б.Г., меня не удивляет его близость с Семеном Кирсановым. Он не был похож на кабинетного ученого, он был человек тонкого остроумия, шармер, в присутствии женщин вообще не говорил о науке. С Семой они — друзья юности. Когда Боря возвращался из Германии после войны, он подъехал с друзьями к Большому театру на трофейном «Хорхе» и бросил его там. Ну разве это не говорит о нем?». Но следует заметить, что Кирсанов, признанный первооткрывателем ряда современных направлений русской поэзии, был весьма образованным человеком. По воспоминаниям Ираклия Андроникова, Кирсанов мог со знанием дела поговорить с разными людьми на разные темы — и о составе берёзового сока, и о теории относительности, и о многом другом.
В заметке о Семене Кирсанове, размещенной в Вики, сказано, что в 1928 году он женился на актрисе Клавдии Бесхлебных. И далее, Клавдия отличалась общительностью, вызывала симпатию у известных людей. Среди её ближайших друзей были блестящие артисты балета Асаф Мессерер и его сестра Суламифь, легенда советского кинематографа 20-х — Анель Судакевич, известные журналист Михаил Кольцов, художник Александр
Тышлер, шахматист Михаил Ботвинник. Клавдия помогла Кирсанову расширить круг знакомых. В воспоминаниях Кузнецова об известном физике Я.И. Френкеле (1894-1952), его расположенности к людям, есть неожиданно высказанное воспоминание: «Просто я почувствовал то же, что ощутила Клава Кирсанова, когда увидела Эйнштейна». Когда это было? в связи с чем? Где? — трудно сказать, ясно лишь одно, — до войны, ибо Клавдия Кирсанова умерла от туберкулеза в начале 1937 г., ей было 29 лет.
Ольга Хазова сделала мне драгоценный подарок — она сканировала несколько фотографий, конца 1920-х-начала 1930-х, на которых изображена небольшая молодежная компания, отдыхавшая, возможно в Крыму или на Кавказе. Пока мне не удалось определить всех, кто изображен на них, но и без этого можно утверждать, что это были очень интересные люди. На одной из них — на фоне невысокой горы сидят и стоят восемь человек: четыре молодые женщины и столько же мужчин. Среди известных мне мужских лиц: молодые Борис Кузнецов и Семен Кирсанов. Определены также три красивые женщины: в первом ряду сидят Суламифь Мессерер и Клавдия Кирсанова, за ними стоят две молодые женщины, одна из них Анель Судаке-вич. Вот как уже в конце жизни Суламифь Мессерер писала о Судакевич: «Анель была знаменитостью. Актриса немого кино и сногсшибательная красавица, она в то время являлась в СССР национальным идолом, наподобие Шарон Стоун и Джулии Робертс в сегодняшней Америке. Судакевич останавливали даже на пыльных тропинках такого забытого Богом уголка, как Хоста, и просили автограф» [11, с. 46]. А, может быть, эти фотографии и были сделаны в Хосте?
Легко понять, что скучный, зажатый, занудливый человек мог лишь случайно оказаться в таком окружении, но Кузнецов там был «своим».
О Семене Кирсанове, Суламифи Мессерер, Анели Судаке-вич написано немало, я хотел бы здесь немного сказать лишь о Суламифи, ибо в течение десяти лет она была женой Б.Г.. Вполне возможно, что встретились они у Кирсановых.
Суламифь Михайловна Мессерер (1908-2004) — принадлежит к известной семье Мессереров-Плисецких, внесшей большой вклад в развитие советского и российского искусства и культуры. В аннотации к ее книге «Суламифь. Фрагменты воспоминаний» сказано: «Имя замечательной балерины и педагога Суламифи Мессерер навсегда останется в истории русского и мирового балета. Прожив чуть менее века, она была свидетельницей многих событий двадцатого столетия, объездила весь мир, блистала на сцене и воспитывала следующие поколения талантливых артистов, пережила годы сталинских репрессий, личные трагедии, а на восьмом десятке лет решилась круто изменить свою жизнь…». 7 февраля 1980 г. во время гастролей Большого театра в Японии Суламифь Мессерер вместе с сыном попросила политического убежища в Англии.
Суламифь Мессерер была яркой, уникальной личностью. В 1926 году она окончила Московское хореографическое училище и вскоре стала солисткой Большого театра. В 1928 году на Всесоюзной спартакиаде, которая одновременно была и чемпионатом СССР по плаванию, она стала двукратной чемпионкой.
В поисках информации о Суламифи Мессерер я познакомился с ее племянником Азарием Мессерером, журналистом, переводчиком, доктором филологических наук и пианистом, с 1981 г. живущим в Америке. Он сообщил мне ценную информацию о Суламифи и попросил своего кузена Михаила Мессе-рера (1948 г.р.), ее сына от второго брака, главного балетмейстера Петербургского Михайловского театра, сканировать для меня нескольких страниц воспоминаний своей матери. Вот что писала Суламифь о начале своего замужества:
Балетная критика благосклонно приняла мою Китри.
Особенно похвалили богатую гамму ее чувств.
«...В образе простой испанской девушки, борющейся за свое счастье, Мессерер правдиво и убедительно передавала многообразные чувства своей героини. Здесь и радость встречи с возлюбленным, и вспышка ревности, и горделивопрезрительное отношение к богатому жениху, и притворное отчаяние в сцене инсценированного Базилем самоубийства...».
Критику невдомек, что именно помогало мне в конце 20-х годов «правдиво и убедительно» воссоздать «радость встречи с возлюбленным». А объяснение простое. Я была влюблена.
В 1930 году я вышла замуж за Бориса Кузнецова, приятеля моих старших братьев.
Милейший и добрейший человек, красавец необыкновенный, он занимался экономикой. В свои 26 лет уже стал профессором. Между делом писал книгу о Лобачевском.
Ни цветов, ни обручальных колец у нас не было. Тогда все это считалось мещанством, мелкобуржуазными пережитками.
Тем не менее десять лет наш семейный очаг и грел, и радовал нас обоих. Поначалу мы жили в квартире у отца, в моей комнате. О ребенке, правда, в то время не помышляли. Мое имя только восходило на афишах Большого, вводы и новые партии изматывали до предела. Роды могли бы выбить со сцены надолго [11, с. 67].
Теперь — небольшой фрагмент интервью Михаила Мессе-рера порталу «Деловой Петербург» (20 августа 2012). Он вспоминает конец 1930-х, когда Майя Плисецкая воспитывалась в семье Бориса Кузнецова и Суламифь:
Мама обожала Майю. Когда ее отца, крупного советского чиновника, расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ, Майя жила у моей мамы, которая ее воспитывала, следила за тем, чтобы девочка продолжала учиться в школе Большого театра. И, когда пришли забирать Майю в детский дом для детей врагов народа, где, разумеется, ни о каком балете не могло быть речи — то есть мир лишился бы великой Плисецкой, — мама легла на пороге: «Через мой труп!» Можете себе представить: в 1938-м! Как сказали маме, единственным законным путем избежать детского дома было усыновить (дурацкое слово, но именно так, а не удочерить) Майю. Что она и сделала. Когда люди открещивались от мужей, жен, родителей, детей, мама ходила и пробивала это усыновление. Мама была героиней! [12].
Безусловно, сказанное в полной мере распространяется именно на Суламифь, но, косвенно, говорит и о Кузнецове. Трудно допустить, чтобы она одна, без какого-либо обсуждения с мужем принимала решение о том, чтобы совсем юная Майя Плисецкая, дочь «врагов народа», жила с ними, и тем более — о ее удочерении.
Закончим наш рассказ фрагментом воспоминаний Сула-мифь Мессерер о завершении семейной жизни с Б.Г.:
«Большой» вернулся в Москву в 1944-м, а я оказалась в столице раньше. Постепенно возвращались люди из эвакуации. Тогда и пробилась ко мне сквозь гарь и боль воюющей страны весточка от Бориса.
Промеж вымаранных цензором строк — разрозненные, казалось, бесстрастные фразы. Жив, более-менее здоров, когда вернусь — неизвестно.
Окольными путями до меня дошла молва: у Бориса в эвакуации нашлась женщина. Нормальный для военного времени оборот событий...
Вернувшаяся из эвакуации сестра ютилась у меня в коммуналке с тремя детьми. Я ответила мужу, обрисовала теснотищу в нашем колхозе. Не мог бы он не спешить с приездом? Ведь жить пока негде.
Борис, видимо, по-своему истолковал мою просьбу. В каком-то смысле у него имелись на то основания: война впрыснула что-то вроде наркоза в наши чувства, мы долго ничего не знали друг о друге, и постепенно жизнь одного перестала быть жизнью другого.
Светлый, добрый человек, Борис понимал это лучше меня. Он не вернулся.
Больше мы не встречались [11, с. 151].
Я стал достаточно регулярно бывать в Москве и останавливаться в семье Кузнецовых в первой половине 1960-х годов, так что я не мог познакомиться с Суламифь Мессерер. Но и от Б.Г., и от членов его семьи я слышал о Мите, так Суламифь называли все, близко знавшие ее, лишь слова, пронизанные добром, теплом. А прочитав приведенные выше ее слова о любви к Борису Кузнецову, о том, что это помогло ей раскрыть образ Китри в балете «Дон Кихот», я, естественно, задумался о том, что удивительная плодотворность исследовательской деятельности Б.Г. на протяжении всех 1930-х годов тоже может быть в значительной мере отражением чувства влюбленности в Миту, которое он тогда безусловно испытывал.
Чтобы закончить эту тему, скажу, что после войны женой Б.Г. стала Римма Леонидовна Нарышкина (1924 — 1985), я хорошо знал ее, был с ней дружен. Римма была очень красивой, элегантной, стильной женщиной. Когда они поженились, по-моему, она была еще студенткой Московского государственного института международных отношений, потом она занималась вопросами гражданского законодательства за рубежом, прежде всего — в США, стала доктором юридических наук, профессором, автором ряда монографий и учебников.
Предвоенное десятилетие. Понимание будущего потребовало обращения к прошлому
Теперь вернемся в начало 30-х и рассмотрим, как складывалась карьера Кузнецова после завершения аспирантуры в РА-НИОН. В самом общем плане сделать это несложно, необходимая информация есть в «Листке по учету кадров» и в Автобиографии. 30-е годы — время развития энергетики и повышенного внимания к истории энергетической техники и электротехники. То был передний край науки, все достижения в области физики и техники на Западе и в СССР рассматривались применительно к решению актуальных задач энергетики. Б.Г. с его прекрасным образованием и чутьем на новое, умением слушать и прекрасными ораторскими данными, оказался в высшей степени востребованным. В июле 1930 г. он — заместитель начальника сектора электрификации Госплана СССР и одновременно — заведующий кафедрой Планового института. Обе эти должности он оставляет в ноябре 1931 г. и в 28 лет становится директором Всесоюзного института энергетики и электрификации. В автобиографии Кузнецова отмечено, что в 1930-1932 гг. он составлял схемы электрификации некоторых регионов страны, участвовал в разработке плана электрификации на вторую пятилетку и был одним из первых составителей схемы единой высоковольтной сети СССР.
Кузнецов принимал активное участие в работе ГОЭРЛО, в 1931 г. выходит его монография «Единая высоковольтная сеть СССР в перспективном плане электрификации», а через год под его редакцией увидела свет книга «Основные энергетические ресурсы СССР и потенциальные торфяные и гидроэнергетические базы. Материалы к новому перспективному плану электрификации СССР».
Но вскоре, в феврале 1933 г., он переходит в Академию наук СССР на позицию старшего научного сотрудника Энергетического института. При этом не останавливается его активная преподавательская деятельность, с февраля 1933 г. и до осени 1939 г. он заведовал кафедрой истории энергетической техники Московского энергетического института. В 1936 году защищена докторская диссертация по экономике «Генезис некото- рых электротехнических принципов». В одном из разговоров с С.Р. Филоновичем Б.Г. рассказал, что ему разрешили сразу защищать докторскую диссертацию. Что касается степени по экономике, то это было обусловлено интересами ВАКа (или органа, исполнявшего в те годы аналогичные функции), которому были нужны люди для формирования Советов по защите диссертаций в области экономики. Таких людей не хватало, поэтому Б.Г. за историческую работу присудили степень по экономике.
Вполне возможно, что столь стремительное движение Кузнецова по карьерной лестнице связано именно со спецификой, точнее сказать — с широтой его научных интересов. Это не могло не импонировать его старшим коллегам, понимавшим, что можно многое ожидать от человека, подходящего к решению актуальных технологических проблем с позиций большой науки. Обратимся к воспоминаниям Б.Г.: «С Г.М. Кржижановским я познакомился в один из весенних дней 1930 г. Я впервые пришел нему, чтобы поговорить о некоторых вопросах, поднятых тогда в нашей литературе. <....> Поводом была моя статья «Генплан и электрификация», опубликованная накануне в «Торгово-промышленной газете», но разговор быстро перешел на более общие темы. <....> Получилось так, что через десять минут я поведал Глебу Максимилиановичу о раздиравшем тогда (отчасти и теперь) мою душу противоречии: меня одновременно интересовали и теоретические проблемы новой физики и технико-экономические проблемы». И затем Кузнецов заметил: «Вскоре после первой встречи с Г.М. Кржижановским я начал работать в Госплане» [8, с. 17-19].
Здесь следует сказать, что в начале 1920 г. Г.М. Кржижановский (1872-1959) по заданию Ленина подготовил работу «Основные задачи электрификации России» и стал председателем Государственной комиссии по электрификации России (ГО-ЭЛРО). В течение 1920-1930-х гг. он был первым председателем Госплана, а затем возглавлял Главэнерго Наркомата тяжелой промышленности. В 1929 г. Кржижановский был избран академиком АН СССР и десять следующих лет был ее вице-президентом. Он сразу рассмотрел в молодом человеке, пришедшем к нему, мощный исследовательский и гражданский потенциал. Не удивительно, что когда Кузнецов написал прогнозную статью для подготавливавшегося А.М. Горьким издания «Две пятилетки» и Горький предложил ему перейти в редакцию этого издания, Кржижановский решительно воспротивился. Но несколько позже, в 1936 г., Кржижановский поддержал Б.Г., который решил перейти в академический Институт истории науки и вспомнил, что на один из дней рождения подарил Кузнецову книжку Киплинга «Кот, который ходит сам по себе». Подарил с намеком, сказав ему: «Ты и есть такой кот. Но мир науки так же тесен, как и мир в целом, а у нас с тобой склонность бродить по этому миру. Мы еще встретимся в энергетической области».
В целом мы видим, что к 33 годам Кузнецов стал не только одним из крупнейших экспертов в области развития энергетической системы страны, специалистом по истории и экономике энергетической техники, но он приступил к реализации своей давней мечты — изучать историю и физику, пусть пока в относительно узком направлении — в энергетике. По-видимо-му, окружавшие его люди, которые были много старше его и обладали несравненно большими, чем он знаниями и опытом, видели его серьезные устремления к пониманию законов природы и его готовность к постижению методологии и духа науки. Чем еще можно объяснить его тесное сотрудничество с такими крупными учеными, людьми масштабного, во многом — планетарного мышления, как академики В.И. Вернадский, В.Л. Комаров, Г.М. Кржижановский и А.Е. Ферсман? Ведь в момент знакомства с ними Б.Г. лишь перешагнул черту тридцатилетия и делал первые шаги в академической науке.
Теперь попытаемся в общих чертах проследить или восстановить путь Кузнецова от энергетики, даже понимавшейся им весьма широко, не только как области технологии, но как важнейшего элемента масштабных социальных преобразова- ний в стране, к истории науки. В небольшой автобиографической книжке «Встречи» сказано: «С Владимиром Ивановичем Вернадским я встречался во второй половине 30-х годов довольно часто, иногда почти каждую неделю» [8, с. 35], особенно Б.Г. тогда интересовали беседы об истории естествознания. В первой половине 30-х он еще не был профессиональным историком науки, хотя уже читал курс истории энергетики в Московском энергетическом институте. И вот, колоссальная историко-научная эрудиция Вернадского, его библиотека и, главное, беседы с самим Вернадским подготовили его к переходу из Энергетического института Академии наук в Институт истории естествознания. Теперь, на мой взгляд, об одном из главных приобретений Кузнецова из общения с Вернадским: «... что я почувствовал в трудах и в беседах Вернадского и что я понял только сейчас, — неизбежности и необходимости выхода из содержания науки в ее историю» [8, с. 36]. Иначе, но эта же мысль была высказана де Бройлем в его беседе с Кузнецовым: «Мне даже кажется, — сказал он, — что я за последние тридцать лет прочел больше книг по истории, чем по физике» [8, с. 79].
Приведу еще один фрагмент воспоминаний Кузнецова, отчетливо показывающий влияние Вернадского не только на его профессиональное становление, но и на осознание им смысла своей жизни. Однажды В.Л. Комаров попросил Кузнецова передать Вернадскому его просьбу — занять какой-то дополнительный пост в Академии наук.
Вернадский предпочел отказаться и объяснил это «страхом смерти». Но не в обычном смысле, а в смысле боязни не успеть в течение оставшейся жизни сделать то, что уже задумано. И на вопрос своего молодого собеседника: «А в каком возрасте должна появиться такая боязнь?» он ответил: «Чем раньше, тем лучше, хорошо бы до тридцати лет, но главное — сохранить ее до старости». Тогда, в 30-е годы, Кузнецов еще не очень представлял себе, что ему предстоит сделать в жизни. Его еще тянуло к экономическим проблемам, к электрификации, к научно-техническим прогнозам. Но при этом он начинал понимать, что такие прогнозы требуют длительной собственно научной подготовки, уже несколько лет читал учебники физики и математики и даже познакомился с некоторыми статьями Эйнштейна. «Гуманитарное прошлое, — подводил итог Б.Г., — и не просто гуманитарный, а гуманистический подтекст статей Эйнштейна направили мою мысль на общую историю науки». И после этого он «почувствовал тот «страх смерти», о котором говорил Вернадский, тут-то (как он рекомендовал — раньше тридцати лет) и появились замыслы, которые, к счастью, сохранились и поныне» [8 7, с. 39]. Уместно заметить, что написано это было в 19821983 гг. 80-летним человеком, автором десятков книг.
Здесь мы наблюдаем определенную двойственность, известную парадоксальность взглядов Кузнецова на развитие науки. Ему необходимо было понять, увидеть будущее энергетики, причем не вообще, а как отрасли народного хозяйства, и потому он обратился к прошлому энергетической техники и энергетики и постепенно это движение привело (или завело) его в принципиально более масштабное и сложное исследовательское пространство. В его Автобиографии сказано: «Со второй половины 30-х гг. работал во все большей степени по философии и общей истории науки». Это совпадает с тем, что отмечено в обстоятельной статье С.С. Илизарова «Кот, который ходит сам по себе» о жизни и исследованиях Кузнецова: « В 1936 г. Б. Г. Кузнецов, занявшись профессиональным изучением истории и философии науки и техники, стал работать в переехавшем тогда из Ленинграда в Москву Институте истории науки и техники. Недолгое время он даже возглавлял этот институт, а после его закрытия руководил сектором истории науки в Комиссии по истории техники и естествознания АН СССР, сведения о которой крайне скудны и отрывочны» [13, с. 139]. Результатом работы в этот период стала книга Кузнецова «Очерки истории русской науки» (М.; Л., 1940) и ряд работ по философии естествознания и по истории мировой науки.
Конец 1930-х. В.И. Вернадский о Б.Г. Кузнецове
Зная из книги «Встречи» о частых встречах Б.Г. с Вернадским, для меня все равно было (приятной) неожиданностью обнаружить в дневнике Вернадского немало записей о посещении его Кузнецовым. В хронологическом отношении рассматриваемый ниже материал в полной мере вписывается в предвоенное десятилетие, но все же я выделяю его в самостоятельный параграф. Дело в том, что скупые, явно не предназначенные для будущего биографа Кузнецова дневниковые записи одновременно передают сложный процесс узнавания одним из выдающихся естествоиспытателей ХХ века представителя нового постреволюционного поколения ученых и помогают увидеть Б.Г. в очень трудные, драматичные предвоенные годы.
События, о которых идет речь в дневнике Вернадского, происходили в 1938 году. В марте того года В.И. Вернадскому исполнилось 75 лет. Он родился в Петербурге, в семье профессора экономики, учился в Петербургском университете, среди его профессоров были В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов. В 1888-1890 гг. позже он обучался в университетах Италии, Франции и Германии. С 1922 по 1926 гг. преподавал в Сорбонне, работал в Музее естественной истории в Париже. В 19151930 гг. возглавлял Комиссию по изучению естественных производственных сил России. Вернадский — один из главных разработчиков плана ГОЭЛРО, академик, создатель нескольких научных школ и первооткрыватель новых исследовательских направлений, организатор ряда академических институтов. В 1934 году Вернадские поселились в маленьком двухэтажном особнячке на Арбате, заняв второй этаж. Летом 1935 года здоровье Владимира Ивановича ухудшилось, и он лечился в Карловых Варах. По мнению историков, Вернадский, Ферсман, Карпинский остались живы в годы репрессий, поскольку обладали колоссальным практическим и теоретическим опытом в геологии, а недра — это валюта.
Б.Г. в октябре 1937 г. исполнилось 34 г., его социализация прошла в сложные годы Гражданской войны, он получил образование в далеко не в лучших вузах страны, лишь в конце 1920х стал осваивать Москву и только в середине 1930-х начинает входить в академическую науку. С трудом представляю, что Кузнецов комфортно чувствовал себя в ходе первых встреч с Вернадским. Разные поколения, разные биографии, несопоставимые жизненные, профессиональные и коммуникационные миры.
Теперь обратимся к материалам дневника Вернадского [14], их расшифровкой и комментированием занимался Владислав Павлович Волков (1934-2012), геохимик, доктор наук, биограф Вернадского, свыше тридцати лет посвятивший изучению наследия своего учителя. Сначала приведу все дневниковые записи Вернадского, в которых упоминается Б.Г. Кузнецов, а потом постараюсь дать краткие пояснения.
3 января 1938, утро: Днем в Институте истории науки. Люди желают сохранить — но, конечно, совершенно ясно — не по силам задача. Я.М. Свикке, старый коммунист написал докторскую (!) работу. С 1904 партиец. Сознает (после опыта) свое бессилие. Уговаривал меня стать во главе. «Профессор Кузнецов» — лучшее впечатление. Пытался, очевидно, «исследовать».
25 января 1938, утро : Были из Института ист[ории] науки Кузнецов и парторг Дусь. Оба — желающие работать, но малообразованные и самоуверенные. Настаивали на том, чтобы я стал во главе. Решительно отказался, но помочь всячески готов. Придется ехать в Президиум (АН СССР). Они говорят, что иначе их закроют.
26 января 1938 : С Кржижан[овским] о Ком[иссии] (по) ист[ории] (науки и техники). Согласился стать председателем] врем[енной] ком[иссии]. Обоих молодых коммунистов Дуся и Кузнецова они проводят (в штат).
4 февраля 1938, утро: Днем у Кржижановского — об Инст[итуте] ист[ории] науки. Молодежь (Дусь, Кузнецов?) протестует и потребовала (через ЦК партии) вторичного заседа- ния. <…>. Думаю, что я тут могу сделать faut[or] pass[ivus] (пассивный доброжелатель).
6 февраля 1938, утро : Днем в Президиуме. Прошло восстановление] Института] ист[ории] н[ауки]. Пришлось стать председателем] временной комиссии. Мое решение имело значение, неожиданное по эффекту и для меня. Хорошее впечатление — молодые ком-(м)унисты Кузнецов и Дусь: энергия, инициатива. Возражал Комаров неудачно. Деборин, очевидно, учтя положение и мнение ЦК партии, перешел (на другую позицию) и внес вопрос о пересмотре (прежнего) решения. Думаю, что я поступил правильно. Пришлось вечером не быть на заседании Биогела.
11 ноября 1938: Были Кузнецов и Дусь — очень интересный разговор. Надо очистить (Свикке, Гамбаров, Найденов, Романов). Вскрылась передача доносов. Они пробрались и к Комарову] (обе группы — друг на друга доносы). Думаю, есть здоровое ядро.
15 ноября 1938, утро : Кузнецов отказывается от исполнения] обязанностей] директора] Институ-та] ист[ории] зн[аний]. Вмешивается Комаров (заболел).
16 ноября 1938, утро : Утром Бор[ис] Григорьевич] Кузнецов. С ним можно говорить. Желание и интерес, мне кажется, есть и научный. Его статьи попул[ярны], и он как будто понимает (их) отличие от чисто научной работы. Комаров вмешался и настаивает на возвращении Нерсесова. Из слов Кузнецова] видно, что эта фигура (бесп[артий-ный]) близк[ая] и адекв[атная] работе. Впечатление сейчас очень тесного вмешательства партии в мелочи — «Правды» и ЦК. Кузнецов хлопочет везде. Нет сейчас настоящего заместителя Бауману. Временный — Андреев. А.А. Андреев (Андр[ей] Андреев[ич]), секретарь Сталина новый. Наиболее влиятельный по делам науки. Необходимо переговорить с Комаровым. Крыж[ановский] от этого уклоняется. Опять поднимается вопрос об уничтожении его как самостоятельной единицы. В «Правде», сказал К[узнецов], что если «честно» не будет проведено, то будет статья не против Ком[аро-ва] — но против Кузнецова] — но будет.
18 ноября 1938, утро : Звонил Кузнецов — 15 (марта) закрытое заседание Президиума (АН СССР). Решили закрыть Инст[итут] ист[ории] н[ауки] и т[ехники]. Допускаю возможность правильного решения: распустить весь институт и набрать новый. Они должны были это сделать сразу. Кузнецов справлялся в сферах: указана была необходимость уменьшения тематики — но и только.
Это же новое: Тараканов, Кузнецов, Веселовский. Они что-то имеют общее. Есть воля, инициатива, работоспособность, идейность. Но это не подходит к ср[ед-нему] уровню (партийцев).
20 ноября 1938, утро : Б.Г. Кузнецов о ликвидации Института] ист[ории] науки. Решение 15-го неожиданное. Комаров с ним (беседовал) по возвращении. Думаю, что Деборина испугала ответственность. Куз[нецов] обратился к Сталину. Ему д[олжно] б[ыть] придется участвовать в ликвидации. Впечатление положительное. Интересуется Герценом.
-
5 декабря 1938, утро : Вчера утром Б.Г. Кузнецов (Шапиро, по Комарову, служил у Кржиж[ановско-го]). С ним о Ком[иссии] (по) ист[ории] зн[аний].
-
9 декабря 1938, утро : Днем Б.Г. Кузнецов. Рассказывал о неразберихе с Институтом] ист[ории] науки. Деборин болен (...) и сектор ист[ории] техники получит единицы. Здесь все «кормящиеся» стремятся. К[узнецов] — несомненно, начитанный и живой. Я ему говорил о своей идее писать в газету об образовании центра изучения ист[ории] зн[аний] и техн[ики] в России и Союзе. Наподобие Пушкинского дома. Дом Менделеева-Лобачевского. Он предлагает] и Ломоносова. Предложил справиться в «Правде» — я согласился. Я считаю, что этим путем исследование ставится в рамки. Архив, библиотека и музей ИИНТ сохранятся.
Выше были приведены слова Б.Г. о том, что во второй поло- вине 30-х он довольно часто встречался с Вернадским, дневниковые записи Вернадского, несомненно, подтверждают это. Вполне возможно, что встреч было больше, во-первых, допускаю, что автор дневника не все вносил в него, во-вторых, можно допустить, что значительную часть 1938 года Вернадский не вел дневник, во всяком случае в онлайновой версии дневника, которой я пользуюсь, не отражены события марта-октября.
Сейчас невозможно сказать, была ли встреча Кузнецова с Вернадским, описанная им утром 3 января 1938, первой, но это весьма правдоподобно. Темой беседы были дела в Институте истории и техники, и на ней Кузнецов был с Я.М. Свикке, исполнявшим тогда обязанности директора этого института. То, что Вернадский записал о своих собеседниках, во-первых, свидетельствует о недостаточном знании их, во-вторых, о его настороженности. Тот факт, что «Профессор Кузнецов» произвел лучшее впечатление, чем Свикке, мне кажется, свидетельствует лишь о том, что он показал себя более включенным в науку, чем «старый коммунист».
Здесь нужны некоторые пояснения. В 1921 году в Российской академии наук под председательством В.И. Вернадского была создана Комиссия по изучению истории, философии и техники, переименованная затем в Комиссию по истории знаний (КИЗ). С 1930 года председателем комиссии стал Н.И. Бухарин. Но уже 28 февраля 1932 года КИЗ переименована в Институт истории науки и техники (ИИНТ). Руководителем института был назначен академик Н. И. Бухарин, а его заместителем стал академик А. М. Деборин. Вскоре в связи с «Бухаринским делом» наступил период смен директоров Института. В 1935-1937 годах Институт возглавлял В.В. Осинский-Оболенский (1887-1938), экономист, публицист, академик АН СССР. После его ареста, отмечает в обстоятельной статье об ИИНТ Ю.И. Кривоносов, «Началась кадровая чехарда, обязанности директора по несколько месяцев выполняли Я. М. Свикке, историк техники, затем Б. Г. Кузнецов» [15, с. 79].
Более развернуто эта история отражена в одном из сборников «Материалов самиздата» (1987): «Следующим директором, верней и.о., был Ян Мартынович Свикке, чл. партии с 1904, в 1918 был командиром латыш. боевых отрядов на Урале и в Сибири, после — на работе по линии Наркомпроса в Москве. В преддверии бухаринского процесса «Правда» дала сигнал к новой чистке ин-та: 11.1.38 появился фельетон Давида Заславского с красноречивым названием «Дармоеды от науки». В ответ на статью президиум АН признал, что в ин-те, «как известно, долгое время хозяйничала шайка троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов», «Только после... фельетона... начата очистка института от бездельников и дармоедов», «...был поднят... вопрос о его ликвидации», но президиум АН решил ин-т сохранить; об изгнании Свикке сказано лишь косвенно: «бездельник и беспринципный человек» и что утвержден новый и.о. директора — Б. Г. Кузнецов («Пр.», 6.2.38)» [16].
И все же 5 марта 1938 года постановлением президиума АН СССР институт был закрыт.
В записи Вернадского от 25 января 1938 впервые встречается фамилия Дусь, это не точно. Кузнецов одно время был директором или исполняющим обязанности директора Института, а его коллега Петр Дмитриевич Дузь (1907-??) — парторгом. О нем известно следующее: «Учёный в области авиастроения, академик РАЕН (1994), д.т.н., д-р экон. наук. С середины 30-х преподавал в МАИ, был деканом факультета. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в народном ополчении. В сентябре 1943 г. необоснованно репрессирован. Находился в заключении в ЦКБ-29 НКВД. Реабилитирован в 1957 г. Автор монографии «История воздухоплавания и авиации в России», выдержавшей несколько переизданий». Конечно, слова о том, что Кузнецов и Дузь «малообразованные и самоуверенные» — не лестные, но, наверное, для того времени — весьма справедливые. Самоуверенность, по-видимому, проявившаяся в несколько поверхностном понимании ситуации и судьбы Института, бы- ла следствием их молодости — Дузю лишь 30 лет — и незнанием положения в Академии наук. А то, что они знали мало, безусловно, но многое у этих исследователей еще было впереди.
Следующие три записи (4, 11 и 6 февраля) очевидное свидетельство изменения мнения Вернадского о Дузе и Кузнецове в положительную сторону и, замечу, Вернадский постоянно подчеркивает партийность его молодых коллег. Из дневника видно, что Вернадский, в самом мягком варианте, не доверял партийной номенклатуре, в данном случае его, по-видимому, удивляли желание коммунистов сохранить Институт и решительность их действий.
Интересны, значимы для понимания личности и научных интересов Кузнецова и динамики отношения Вернадского к нему дневниковые записи от 15 и 16 ноября. Вполне допускаю, что встреча, состоявшаяся на следующий день после отказа Кузнецова от исполнения обязанностей руководителя Института, началась с обсуждения именно этой темы, но затем вышла на более высокий, общенаучный уровень. Именно этим объясняю слова: «Утром Бор[ис] Григорьевич] Кузнецов. С ним можно говорить. Желание и интерес, мне кажется, есть и научный». Здесь впервые Вернадский записал в дневнике не Кузнецов, но Бор. Григ. (полное написание имени и отчества — это от редактора текста) и выделил курсивом «и» перед «научный». Сейчас, по прошествии почти восьмидесяти лет после той встречи, трудно сказать, как тогда Вернадский и Кузнецов различали популярные и чисто научные статьи, тем более что мне не известно, о каких работах Кузнецова шла речь. Скорее всего, Вернадский симпатизировал активности деятельности Кузнецова по спасению института Истории науки и техники, и его обращениям в различные структуры власти, хотя это было не безопасно. Но вспомним: год назад написанное им письмо в защиту друга — Михаила Тайца, принятие в свою семью Майи Плисецкой — дочери «врагов народа»
А вот сказанное всего через два дня о Кузнецове и двух сотрудниках академика Ферсмана: «Они что-то имеют общее. Есть воля, инициатива, работоспособность, идейность. Но это не подходит к ср[ед-нему] уровню (партийцев)». Можно предположить, что настороженность Вернадского, вызванная мало понятной ему партийностью Б.Г., постепенно сменилась пониманием того, что перед ним, действительно, человек, еще не много знающий, но увлеченный историко-научными поисками.
Прошло еще два дня, и Кузнецов сообщил Вернадскому о ликвидации Института, ему все же пришлось возглавить ликвидационную комиссию в Ленинграде, и о письме Сталину, скорее всего, по вопросу о сохранении Института. Интересно, ни академик Абрам Моисеевич Деборин (1881-1963), обладавший в конце 30-х достаточно высоким политическим статусом, ни Ян Мартынович Свикке не боролись за сохранение ИИНТ так, как Кузнецов; а ведь реакция на его действия могла быть крайне негативной.
Интересно, что же могло интересовать Б.Г. в творчестве А.И. Герцена? Я не думаю, что это были собственно художественные или эстетические взгляды писателя. Конечно, возможно, но маловероятно, что «Былое и думы» каким-то образом подводили, подталкивали Кузнецова к размышлениям, которые много позднее, уже после войны проявились в его исследованиях соотношения прошлого и будущего, в работах о необратимости времени. В увлеченности Кузнецова взглядами Герцена я склонен видеть, прежде всего, свидетельство социологичности интерпретации Б.Г. предмета своих исследований. Здесь отмечу, что один из первых советских социологов послевоенного времени А.Г. Здравомыслов, специально изучавший историю российской (дореволюционной) социологии, полагал, что «первым» российским социологом был именно Герцен.
И вот — две последние в 1938 г. записи Вернадского. Не знаю, почему вдруг, 5 декабря, фактически через год знакомства с Кузнецовым он, ссылаясь на академика Комарова, приводит его фамилию, полученную при рождении — Шапиро, и тот факт, что он работал у Кржижановского? Может быть, это бы- ло связано с работой Б.Г. в Комиссии по истории знаний? И затем 9 декабря — серьезнейший разговор с Кузнецовым о грандиозном плане создания в стране центра изучения истории знаний и техники в прошлом и настоящем, а также о Доме Менделеева-Лобачевского подобного Пушкинскому дому в Петербурге. Этот музей, архив, библиотека Пушкинских материалов и исследовательский центр были созданы в Петербурге в 1905 г. для изучения творчества поэта. Уже по тому, что Кузнецов напомнил о Ломоносове и предложил справиться в «Правде», нетрудно допустить, что он принимал этот замысел и был готов работать над его реализацией.
И здесь — как финал годовых встреч: «Кузнецов — несомненно, начитанный и живой». Вспомним начало: малообразованный и самоуверенный, к тому же — настораживающая партийность. Но последнее не прошло, 1 января 1939 г., в утренней записи читаем: «Сейчас Б.Г. Кузнецов (он и раньше, мне казалось, имел связь с ЦК) — назначен представителем в ЦК по науке («с» — курсивом). В комментарии В.П. Волкова сказано: «Отметим, что в обстоятельном материале о жизни и деятельности Б. Г. Кузнецова в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», опубликованном в 1993 (№ 4. С. 124-139) этот важный факт его биографии не отмечен». 18 февраля Вернадский возвращается к этой теме: «По-видимому, общая структура ЦК партии изменилась. Вместо игравших большую роль заведующих наукой — Стецкого (застрелился), Баумана — назначен (Б.Г.) Кузнецов — маленький по влиянию человек, по словам Комарова. Здесь В.П. Волков отсылает к вышеприведенному комментарию.
Мне остается лишь добавить, что ни в «Личном листке по учету кадров», ни в автобиографии Кузнецова не отмечено, что он занимал какую-либо должность в ЦК. А ведь оба эти документа делались в 1968 году, когда член КПСС с более чем сорокалетним стажем обязательно отразил бы этот факт в своих документах.
Вернемся к хронологии. Конец 1930-х
На рубеже 30-х — 40-х тематика исследований Кузнецова расширяется, он стремится понять, по каким направлениям будет развиваться наука и техника и какие за этим последуют преобразования в промышленности и обществе. Приведу названия нескольких его предвоенных книг: «Очерки по истории электротехники» (1936 г.), «История энергетической техники» (1937 г.), «Освоение естественных богатств Союза ССР» (1938 г.), «О новом этапе в развитии науки» (1939 г.), «Очерки истории русской науки» и «Коммунизм и техника будущего» (1940). Уже по названиям этих книг видно, что к концу 1930-х Кузнецов-энергетик, причем, один из ведущих в стране, постепенно становится историком техники, который трактовал эту тему на базе широких социально-исторических воззрений.
В интересной, недавно опубликованной статье С.С. Илизарова [17] о творчестве крупнейшего русского историка и социолога науки Т.И Райнова (1888-1958) сказано, что во время одной из его встреч с В.И. Вернадским обсуждалась судьба сборника «Очерки по истории естествознания XVI — перв. полов. XVIII вв.» (IV том «Всеобщей истории естествознания»), оргре-дактором которого был Райнов. Этот проект не был реализован, но сохранились документы, по которым можно судить о содержании и авторах задуманных материалов. Кузнецов должен был подготовить в этот сборник три статьи общим объемом в 4 п.л.: «Возникновение капиталистического производства и общий характер естествознания мануфактурного периода», «Ломоносов-естествоиспытатель» и «Мировоззрение и естествознание мануфактурного периода». К сожалению, творчество Райнова как социолога науки крайне мало изучено, и потому сложно даже предположить, как ему виделась общая концепция сборника, но в любом случае для меня крайне важен факт включения Кузнецова в состав авторов этого коллективного труда. Ведь это означает, что уже в конце 1930-х в своих взглядах на развитие техники и науки Кузнецов был не только собственно историком, но и социологом.
Прослеживая освоение Кузнецовым историко-научного пространства, охват им все новых направлений, я все же был несколько удивлен, прочитав статью Е.Б. Музруковой и Л.В. Чес-новой «Советская биология в 30-40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы» [18]. Авторы статьи отмечают, что в 1939 г. журнал «Успехи современной биологии» находился в очень сложном положении. Он продолжал печатать статьи по генетике, экспериментальной эмбриологии, дарвинизму видных ученых, не желавших делать реверансы Т.Д. Лысенко и использовавших для прикрытия в лучшем случае авторитет Ч. Дарвина и К.А.Тимирязева. Поэтому, полагают Музрукова и Чес-нова, в специальном выпуске журнала, приуроченному к 60-летию Сталина, была опубликована работа Б.Г. Кузнецова «Естествознание сталинской эпохи». Далее следует комментарий авторов статьи: «Даже такой умный, талантливый человек, пытался продемонстрировать свое соглашательство, лояльность редколлегии и журнала по отношению к процессам, происходившим в науке и в самой биологии». В качестве иллюстрации своих утверждений они цитируют слова Кузнецова: «...воспоминание о тяжелом прошлом русской науки, мысль о тяжелом настоящем науки за рубежом еще больше сплачивает советских ученых под знаменем Великой Октябрьской социалистической революции, которой наука обязана своей свободой» и приводят еще несколько подобных утверждений Б.Г..
Легко понять, что такой стиль статьи был условием ее публикации в «Сталинском» выпуске журнала, и потому и ее содержание, и ее язык бессмысленно обсуждать с историко-научной точки зрения. Но мне интересно, почему статья о естествознании, более того — о работах Т.Д. Лысенко в области агротехники, была заказана недавнему энергетику? Сами авторы делают такое допущение: «Вполне возможно, что статья Б.Г.Куз-нецова, явившись своеобразным индикатором на верность идее и вождю, позволила журналу еще некоторое время печатать статьи антилысенковского толка».
Пожалуй, с этим можно согласиться, но одновременно нельзя исключить того, что эта статья была написана Б.Г. по личной просьбе Президента АН СССР В.Л. Комарова, в 1939 г, ставшего ответственным редактором «Успехов современной биологии». Они познакомились в 1936 году, и вот как в начале 80-х Б.Г. вспоминал их встречи. «Я начал довольно часто ходить к Комарову иногда по редакционным делам [БД: имеется в виду журнал «Вестник Академии Наук»] <…> а подчас без всяких дел. Комаров мне часто рассказывал о своих путешествиях на Восток <…> Потом беседы принимали более общий характер. Несмотря на разницу в возрасте, установилась и росла эмоциональная близость». Таким образом, первое, что можно заключить из всего сказанного, это то, что к концу 30-х Кузнецов рассматривался научным сообществом как историк науки широкого профиля, и второе, — что его статья «Естествознание сталинской эпохи» была не научной, а откровенно политической. Прочитав все это в раннем варианте настоящей статьи, С.Р. Филонович вспомнил рассказ Б.Г. об одном из трудных событий в его жизни. Уже после войны его вынудили написать книгу о вкладе Сталина в развитие естествознания. Он понимал, что публикация этой книги нанесет непоправимый вред его репутации, но сделать ничего не мог. Книга была написана, и Б.Г. прислали верстку. Что делать? Он всячески оттягивал момент возвращения верстки в издательство и дотянул … до смерти Сталина.
Еще одно десятилетие:война и становление историка науки
Но война не только приостановила исследования Б.Г. Кузнецова в области истории науки, но на несколько лет оторвала его от науки.
Уже 23 июня 1941 г. Президиум АН СССР обязал академические учреждения перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями фронта и тыла. В июле 1941 г. образуется
Научно-технический совет Государственного комитета обороны. В его состав вошли академики И.П. Бардин, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, в работе Совета участвовали академики СИ. Вавилов и Н.Н. Семенов и ряд других ведущих ученых страны. Основным ядром Комиссии стал научный коллектив Академии наук, который возглавил ее президент В.Л. Комаров, а его заместителями были назначены академики И.П. Бардин, Э.В. Бриц-ке и С.Г. Струмилин. Было выделено несколько групп по наиболее важным направлениям во главе с ведущими специалистами Академии наук. Так группу транспорта и энергетики возглавили член-корреспондент АН СССР В.И. Вейц, профессора Б.Г. Кузнецов и Н.Н. Колосовский.
Через четыре десятилетия после описываемых событий Б.Г. так вспоминал то время: «Буквально каждый день на Урал прибывали сотни демонтированных заводов и должны были возникнуть без малейшего промедления десятки новых отраслей промышленности. Для них нужно было в течение нескольких недель, а чаще дней и даже часов, определить, каковы должны быть новые источники энергии, новые транспортные условия, новые источники водоснабжения, новые сырьевые базы и новые технологические процессы, иногда принципиально новые, казалось требовавшие многолетних исследований. А потом нужно было все это реализовать....Через несколько месяцев, во всяком случае не позже, чем через год, эвакуированная промышленность уже работала» [8, с. 32-33].
-
10 апреля 1942 г. за успешную работу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны» группе ученых была присуждена Сталинская премия первой степени. Среди награжденных был и Б.Г. Кузнецов. Но уже в июле 1942 г. он — в действующей армии, возглавляет политотдел 61 инженерной (14 штурмовой) бригады. Записи из «Личного листка по учету кадров» показывают, что за 20 лет до этого Кузнецов приобрел первый опыт политработы в армии. Напомню, что в 1921-1922 гг. он одновременно с учебой в Политехническом университете в Днепропетровске работал помощником начальника учебной части 44 пехотных курсов.
В рядах инженерной бригады, Кузнецов участвовал в боевых действиях под Сталинградом и на Южном фронте. С мая 1943 г. он — заместитель начальника отдела Штаба инженерных войск. По воспоминаниям Кузнецова, маршал М.П. Воробьев, командовавший инженерными войсками в годы войны, создал в Штабе отдел по анализу инженерного обеспечения операций, Б.Г. должен был ездить на фронты и инструктировать инженерные части, чтобы уменьшить потери штурмовых бригад. Теперь процитирую воспоминания Кузнецова: «... я по его [БД: маршала Воробьева] заданию написал небольшую книжку о тактике инженерного штурма от Вобана [БД: речь идет о фортификационной системе, разработанной еще в XVII веке выдающимся французским военным инженером Себастьеном ле Претра де Вобаном] до деблокирования Ленинграда, которая была разослана инженерным штурмовым бригадам. Отчетом о поездке на Ленинградский фронт и обзором инженерного обеспечения деблокирования Ленинграда и закончилась моя военная карьера» [8, с. 43]. В боях под Нарвой он был серьезно ранен и после госпиталя в ноябре того года демобилизован.
Хотелось бы знать, участвовал ли в боевых операциях в годы Великой отечественной войны еще кто-либо из лауреатов Сталинской премии I степени в области науки.
Через много лет после окончания войны в посмертно изданном тексте Б.Г. о Спинозе я обнаружил следующее его автобиографическое замечание:
Зимой 1943 г., в Сталинграде, очередную атаку немцев на траншеи, в которых находились батальоны нашей инженерной бригады, сопровождал и поддерживал немецкий самолет, который осыпал траншею бомбами и пулеметными очередями. Я думал об очень близкой и, по-видимому, неизбежной смерти, но был уже достаточно опытным офицером, чтобы знать, как можно ликвидировать это ощущение и вернуть себе то «ощущение бессмертия», потеря которого на передовой является таким же ЧП, как дезертирство; моя роль как начальника политотдела бригады как раз и состояла в ликвидации ЧП. В напряженной обстановке я вспоминал о встречах с людьми и о прочитанных книгах. Когда наступление немцев выдохлось, ко мне подошел командир соседней бригады, полковник Корявко — самый, по общему признанию, храбрый офицер инженерных войск. Он командовал бригадой десантников, забрасывавшихся в ближайшие тылы противника с грузом толуола и подрывавших немецкие доты. И Корявко, и его бойцы в промежутках между вылетами начинали скучать, нетерпеливо ожидая следующего задания. Корявко спросил меня, о чем я думал во время атаки немцев, и, узнав, что о книге Спинозы, заметил: «Что ж, это правильно, вы помните «Есть упоение в бою...» и следующую фразу «Пира во время чумы»: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог...» Я думаю, что не только то, что грозит нам гибелью, но и всякое отвлечение от личного бытия и от прагматических задач приближает человека к невыразимому наслажденью и к «бессмертья, может быть, залогу» [19].
Я читал много воспоминаний о войне, но не припомню чего-либо схожего. Да и появление этой истории в размышлениях о сложнейших аспектах философии Спинозы как-то не укладывается ни в наши представления о военных мемуарах, ни в рамки академического анализа философских учений. Более того, подобное смешение текстов столь разного жанра скорее можно было бы ожидать в работах молодых приверженцев постмодернизма, нежели в книге советского 80-летнего историка науки. Однако выше я уже отмечал «странную» для академического ученого книгу Б.Г. о путешествиях через эпохи графа Калиостро. Но это свободное перемещение автора во времени и различных формах пространства позволило ему акцентировать внимание читателя на логическом сходстве проблем, разрабатывавшихся Спинозой и ощущаемых людьми в момент их вероятной встречи со смертью. На мой взгляд, в этом стилистическом приеме отражен многолетний и глубокий интерес Кузнецова к науке, и его внутренние диалоги с Бахтиным, Булгаковым, Достоевским и знание им русской классической литературы с характерным для нее прерывистым во времени и пространстве повествованием.
Один из итогов военного времени кратко отмечен Кузнецовым в графе о правительственных наградах «Личного листка по учету кадров»: Государственная премия I степени (1942 г.); Орден Трудового Красного Знамени (1945 г.), Орден Отечественной войны I степени (1945 г.), медали. В действительности, страна высоко отметила его трудовые и ратные достижения. Однако в наших родственных беседах он никогда не возвращался к тем событиям. А в одной из бесед с Филоновичем он вспомнил, что после подвига Александра Матросова в армии прошла волна его повторений. Военное руководство было этим озабочено: солдаты должны воевать, а не умирать. В обязанности Б.Г. как политработника входило разъяснение этого обстоятельства.
В моем представлении, война, ощущения всего виденного и прожитого, размышления о смысле науки и цене жизни кардинально изменили отношение Кузнецова к своему делу. Если раньше, он был «котом, который ходит сам по себе», то теперь он стремился к свободе в физическом и метафизическом — не религиозном, но рационалистическом — смыслах. Чтобы быть свободным в физическом отношении, он вскоре полностью и навсегда отошел от научно-организационных дел в Институте, одним из создателей которого был. Но стать свободным в метафизическом смысле он мог позволить себе лишь после смерти Сталина. То лидирующее положение в историко-научном цехе, которое признает за ним С.С. Илизаров, обусловлено, прежде всего, тем, что Кузнецов более других его коллег ждал «политическую оттепель» и более других готовился к ней.
Послевоенный период своей работы охарактеризован Кузнецовым в его «Автобиографии» следующим образом: «В 1944 г. при организации Института истории естествознания Академии Наук СССР был назначен заместителем директора, а позже старшим научным сотрудником. После войны начал работать в области философии и истории физики, а в 50-е годы также в области философского анализа развития современной теоретической физики и в особенности по философии и истории теории относительности. Участвовал в работе многих союзных и международных конгрессов, конференций и симпозиумов по философии и истории науки. Действительный член Международной Академии истории науки и председатель Международного Эйнштейновского комитета».
Во второй части статьи будут освещены послевоенные годы жизни и работы Б.Г. Кузнецова.
Список литературы И это все вместила одна жизнь
- Френкель В.Я. Высоких званий не имел, но было имя//Вестник Российской Академии Наук. Том 63. № 10. 1993, с. 903-908.
- Кирсанов В. С. Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове. Исследования по истории физики и механики: /Редкол.: A. Т. Григорьян (отв. ред.) и др. АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. -М.: Наука, 1985 http://litbook.ru/article/7359/
- Kuznetsov B.G., Reason ana Being. Boston: D. Reidel Publishing Co., 1987.
- Илизаров С.С. В.И.Вернадский: Диалоги с историками науки//В.И.Вернадский -историк науки: к 150-летию со дня рождения/Тезисы докладов Международной научной конференции (Москва, 22 января 2013 г.). М.: ИИЕТ РАН, 2013.
- Алексеев А. «Бессмертие мыслителя, как условие и как часть бессмертия научных представлений». http://www.cogita.ru/an.-alekseev/publikacii-a.n.alekseeva/abbessmertie-myslitelya-kak-uslovie-i-kak-chast-bessmertiya-nauchnyh-predstavleniibb
- Докторов Б., Козлова Л. Захочет ли граф Калиостро посетить моих героев? http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Comments/doktorov_kozlova.html.
- Кузнецов Б.Г. Идеалы современной науки. -М.: «Наука». 1983.
- Кузнецов Б.Г. Встречи. -М: Изд-во «Наука». 1984.
- Кирсанов В.С., Филонович Р.С. Б.Г. Кузнецов -историк науки, философ, экономист//Вестник РАН №3, 1986, с. 111-113. http://wwwras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?arti-cleid=c5e8d650-0d89-4a44-b3b2-5835ed120c2c
- Кузнецов Б. Декарт и русская наука//«Правда», №211 от 2 августа 1937 г. http://www.oldgazette.ru/pravda/02081937/index1.html
- Мессерер С. Суламифь. Фрагменты воспоминаний. Олим-пия-Пресс. -М.: 2005.
- Михаил Мессерер: «Людям становится не до шуток» http://www.dp.ru/a/2012/08/20/Mihail_Messerer_Ljudjam_s/
- Илизаров С.С. Кот, который ходит сам по себе//80 лет Институту истории науки и техники. 1932 -2012. Под общей ред. B.М. Орла. -М.: Изд-во «РТСофт». 2012, с. 138-141.
- Вернадский В.И. Дневник 1938 г. http://you1917-91.narod.ru/vernadskiy_dnevnik1938.html
- Кривоносов Ю.И. Институт истории науки и техники: тридцатые -громовые, роковые.//80 лет Институту истории науки и техники. 1932 -2012. Под общей ред. В.М. Орла. -М.: Изд-во «РТСофт». 2012, с. 60-87.
- Materialy samizdata: Samizdat materials, Issues 22-35. Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies, 1987 https://books.google.com/books?id=643wAAAAMAAJ.
- Илизаров С.С. Неизвестное о малоизвестном: ТИ. Райнов и В.И. Вернадский//Материалы к биографиям ученых и инженеров. ВИЕТ. 2013. No 4. С. 97-137 http://vietmag.org/wp-content/uploads/97-137_Ilizarov.pdf
- Музрукова E.Б., Чесновa Л.В. Советская биология в 3040-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы /Репрессированная наука. Вып. II. Под общей ред. проф. М.Г.Ярошевского.СПб.: «Наука». 1994. http://www.ihst.ru/projects/sohist/os2.htm
- Кузнецов Б.Г. Спиноза //Природа, 11, 1985 http://caute.ru/spinoza/rus/kuzspi.html