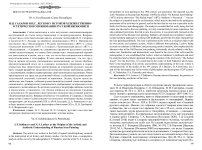И. П. Сахаров и Н. С. Лесков у истоков художественноэстетического понимания русской иконописи
Автор: Голубинская Юлия Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья выполнена в поле актуальных междисциплинарных исследований на стыке искусствоведения и литературоведения. Впервые осуществлен сопоставительный анализ взглядов палеографа И. П. Сахарова и писателя Н. С. Лескова на проблему иконописания в XIX в. Материалом послужили труд «Исследования о Русском иконописании» (1849 г.), статья «О русской иконописи» (1873 г.) и повесть «Запечатленный ангел» (1873 г.). «Исследования.» Сахарова не становились предметом детального изучения ученых-искусствоведов, что может быть связано как с неоднозначной оценкой его деятельности в целом, так и с тем, что он не был специалистом в области искусствоведения и этнографии. В ходе анализа выявлено, что его труд, будучи первым крупным, посвященным иконописанию, не только обобщил предшествовавший опыт, но и содержал положения, приведшие к новым открытиям, был практически ориентирован на сохранение русского письма икон. Сахаров разработал аналитико-синтетический подход иконописца к работе с подлинниками, впервые охарактеризовал сами иконописные подлинники. Икона представлена в его труде как религиозный объект с собственной художественноэстетической системой, отличной от живописи. Лесков, будучи таким же любителем, как Сахаров, и обладая художественной интуицией, также подчеркивал самоценность древнерусского иконописного изображения, исторически тесно связанного с византийским. Во взглядах писателя и палеографа найдены сходства и пересечения, установлено, что Лесков опирался на подлинник Сахарова и пользовался его аналитико-синтетическим подходом при создании повести «Запечатленный ангел». Впервые отмечается, что в работах и Сахарова, и Лескова присутствует начало художественно-эстетического понимания иконы, которое нехарактерно для исследований XIX в. (Ф. И. Буслаева, Д. А. Ровинского и др.) и будет развито только в трудах философов и богословов XX в. (Е. Н. Трубецкой, П. А. Флоренский и др.).
Н. с. лесков, и. п. сахаров, русская классическая литература, практика искусства иконописания, эстетика иконы
Короткий адрес: https://sciup.org/149140466
IDR: 149140466 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-98
Текст научной статьи И. П. Сахаров и Н. С. Лесков у истоков художественноэстетического понимания русской иконописи
В числе первопроходцев в области изучения иконы традиционно называют Н. Д. Иванчина-Писарева, С. П. Шевырева, И. М. Снегирева, однако для периода 40-50-х гг. XIX в. наиболее заметным оказался вклад в развитие знаний о древнерусских памятниках И. П. Сахарова (1807-1863 гг.).
Сын тульского священника, врач по образованию и палеограф по призванию, он рано начал заниматься фольклором и этнографией. Первые статьи относятся к 30-м гг. XIX в. В 1836 г. вышел первый том «Сказаний русского народа». Именно это собрание сделало Сахарова известным как в обществе, так и в науке того времени. Но уже к 50-м гг, когда стали активно выходить труды археологов и этнографов, «Сказания...» начинают терять свой авторитет. В современных исследованиях есть две тенденции в оценке работ Сахарова. Т. А. Володина [Володина 2020], Т. Д. Соловей [Соловей 2016] видят в Сахарове предприимчивого человека, чьи работы оказались выполнены на злобу дня. Не умаляя недостатков дилетантского взгляда, В. Г. Вздорнов [Вздорнов 1986, 56-59], Т. В. Наумова [Наумова 2014], М. А. Полякова [Полякова 2008] подчеркивают, что вклад Сахарова в развитие русской археологии нельзя недооценивать. Сахаров не был профессиональным ученым, но смог подготовить исследовательскую базу для будущих открытий, выполненных специалистами. Для 40-50-х гг. труды Сахарова, проникнутые любовью к истории и не лишенные научной обо-
скованности, были одними из самых популярных книг.
В тени «Сказаний» остается не менее важный по своей идее труд Сахарова «Исследования о Русском иконописании», который вышел в двух книгах в 1849 г. и был очень быстро раскуплен [Вздорнов 1986, 57]. В нем палеограф подчеркивает необходимость изучения и восстановления древнерусского искусства, но говорит, что писать его историю еще «не время, <...> нет исследований решенных, нет сведений, очищенных критикою» [Сахаров 1850а, 5]. В отличие от последующих исследователей, Сахаров не критикует древний стиль писания икон, считая ошибкой оценку его с точки зрения современной академической живописи, отсутствие перспективы он объясняет требованиями Церкви. Об эстетической составляющей как таковой исследователь не размышляет, но общие замечания по поводу особого стиля древних икон можно считать первыми попытками защитить их художественную сторону.
Основой работы послужили беседы со старообрядцами [Сахаров 1850а, 6], чьи коллекции, представляющие единственно возможный на тот момент способ познакомиться с древнерусским искусством, становились объектом интереса исследователей. Для того чтобы сделать его предметом внимания не только специалистов, но и более широкой аудитории, Сахаров предлагал составить историю древнерусского искусства, для которой необходимо провести ряд подготовительных работ [Сахаров 1850а, 6-7].
Отмечая проникновение «фряжского» письма (т.е. подобного реалистическим изображениям) в Россию XVI в. и видя в нем причину упадка иконописания, Сахаров составляет программу по обучению иконописцев. Жизнеподобность трактуется им как чуждый элемент, вторгающийся в пространство иконописного изображения, существующего по своим законам. Этим позиция Сахарова отличается как от точки зрения Д. А. Ровин-ского («...византийское иконописание не оставалось в России в виде исключительного образца, <...> развитие совершалось под влиянием западных искусств [Ровинский 1903, 12]), Г. Д. Филимонова («...рисунок сбит, а на помощь художнику не является натура» [Филимонов 1873, 21]), так и от точки зрения Ф. И. Буслаева («.. .никогда она не удовлетворит эстетически воспитанного вкуса» [Буслаев 1866, 19]), — видных исследователей иконы XIX в. Принимая во внимание возникающие у современных ему археологов вопросы к византийской иконописи (которой наследует древнерусская), в частности касающиеся чрезмерной яркости изображений, незнания перспективы и недостатка тона в цветах и т.п., Сахаров объясняет их следующим образом: «Церковь дозволяла Византийцу живописать Святого во славе и величии—как праведника, представлять его в светолепном смирении — как горнего жителя, в отречении от мира и всего житейского. А наши взгляды хотят искать в нем земного человека, в дебелых формах, украшенного в одеждах нашего века, в пышных чертогах нашего размера, в Итальянской перспективе» [Сахаров 1849а, 18-19]. Сахаров фактически говорит об эстетической установке иконописи на изображение духовной красоты, однако, не будучи искусствоведом, не приводит более подробных попыток объяснения, например, яркости цвета в иконах. Способы сохранения древних икон занимают центральное место в его работе: издание подлинников, создание иконописных школ, дальнейшее научное изучение иконописи.
Несоблюдение требований иконописных подлинников при писании икон Сахаров считает главной причиной упадка древнего искусства. Он подчеркивает, что руководства для изографов должны представлять собой единство трех книг: толкового и лицевого подлинника, а также технической книги, тем самым давая иконописцу наиболее полное представление о том, как рисовать по византийским образцам, «откуда мы получили первообразы для изображения Святых» и сохранившимся русским образцам [Сахаров 1849а, 18]. Стоит отметить, что именно Сахаров, по признанию Д. А. Григорова [Григоров 1887, 21], был первым из исследователей, кто подробно описал работу с подлинниками и в целом охарактеризовал их.
Сахаров обращает внимание на европейский опыт в изучении данного вопроса. В 1845 г. в Париже выходит первое руководство по иконописи, опубликованное французским ученым-археологом А. Н. Дидроном под названием «Manuel d’iconographie chretienne grecque et latine» («Справочник по греческой и латинской христианской иконографии»), которое является переводом текста ерминии афонского иеромонаха, иконописца Дионисия Фурноаграфиота. По словам Сахарова, данный труд «показал нам всю важность его и объяснил настоящий состав столь важной книги для ико-нописания» [Сахаров 1850b, 11]. Поясним, что в отличие от иконописного подлинника, который мог быть лицевым или толковым и который мог сопровождаться отдельной технической книгой, ерминия представляет собой не только иконографические наставления, но также включает в себя рецепты изготовления красок, пигментов, лаков, методы реставрации, рассуждения по богословию иконы.
Сахарова в подлинниках интересует не история их генезиса, как, например, Буслаева, а специфика практического применения. Он подчеркивает, что простое чтение иконописного подлинника не даст постигнуть его истинного назначения и не раскроет «ни одной идеи о Византийском художестве» [Сахаров 1849а, 18]. Принимая во внимание то, что подлинники существуют в двух вариантах (лицевой, толковый), а также наличие их нескольких редакций или списков, Сахаров предполагал, что иконописец должен изучать подлинники аналитически и синтетически, благодаря чему, с одной стороны, у иконописца сложится понимание того, «как в древности иконописец обязан был изображать: человека, его одеяние и окружающие предметы» [Сахаров 1850b, 19], с другой стороны, иконописец, соединяя данные разных подлинников, сможет составить сводный текст «для изображения избранного предмета» [Сахаров 1850b, 19-20]. «Один текст не в состоянии удовлетворить иконописца в его художестве» [Сахаров 1850b, 20], — считал Сахаров, поэтому он настаивал на издании подлинников в единстве трех книг: лицевого подлинника, толкового и технической книги, что в данном случае напоминает издание ерми-

нии. Аналитико-синтетический подход предполагал сохранение традиции древнерусского иконописания путем следования «правилам и образцам» византийского искусства, позволял избежать художественного произвола и открывал перед изографом творческую свободу, которую подразумевает сравнительная работа. Эта позиция непонятна была Г. Д. Филимонову, который считал недостатком подлинников то, что «в них пишется не одно ито же» [Филимонов 1873, 21].
В первой книге Сахарова, помимо важных замечаний по поводу будущего изучения древнерусского искусства, в качестве образца помещен составленный им текст толкового подлинника в двух редакциях, снабженный для сличения выписками из «Греческого Подлинника» — перевода ер-минии Дидроном, чего ранее не проводилось. Видя необходимость в поддержке древнего искусства, палеограф составил план обучения иконописцев. Курс должен был включать практическое и теоретическое изучение иконописания, делящееся на четыре программы: рисование, археология священных облачений, техническое учение иконописания и история византийского и русского иконописания. По замечанию К. И. Маслова, программа Сахарова, краткий вариант которой помещен во введении к первой книге, «предназначалась для школы, которую собирался открыть некий С.А.С.» [Маслов 2015, 253], а «Программы технического учения иконописания» и «Техническое учение иконописания» должны были представлять собой курс в Санкт-Петербургской семинарии. По мысли Сахарова, обучение способствовало бы распространению иконописания, позволило бы заменить иконописцев-ремесленников на иконописцев-художников, лично и полностью занимающихся исполнением изображения.
Вторую книгу ученый посвятил обозрению иконописных школ, что явилось большим достоинством его работы, так как ранее, как подчеркивает сам исследователь, не многие обращали внимание на этот аспект. Сахаров выделяет преосвященного Анатолия, И. М. Снегирева, С. П. Ше-вырева, Н. Иванчина-Писарева. Г. И. Вздорнов отмечал, что перечень школ у Сахарова «несравненно более полон и точен» [Вздорнов 1986, 57], в него входит восемь школ: византийская, киевская, новгородская, московская, устюжская, строгановская, фряжская и суздальская [Сахаров 1849а, 8], рассмотренных в хронологической последовательности их появления. Особую роль Сахаров отводил именно византийской иконописи, без которой нельзя понять значения русских школ [Сахаров 1849а, 9]. Он подробно описал около сорока памятников византийской иконописи, находящихся в России, выделив их общие стилистические черты. Однако, как потом доказал Д. А. Ровинский, часть икон, выделенная Сахаровым, не относится к византийскому искусству.
Хотя период 50-60-х гг. был отмечен выходами работ Д. А. Ровинского, Г. Д. Филимонова, Ф. И. Буслаева, которые значительно толкнули вперед науку об иконописи, в отношении нее оставался один главный предрассудок: икона в художественном плане некрасива. Развивалось историческое понимание иконы, впоследствии стилистико-иконографическое (огромное значение имеют труды Н. П. Кондакова и его школы), но эстетикофилософская составляющая до XX в. оставалась почти незатронутой. Обратим внимание, что первооткрывателем в области религиозной эстетики явился также неспециалист — князь Е. Н. Трубецкой.
Однако в XIX в. спустя 23 года после выхода книг Сахарова идею самодостаточности и самоценности древнего письма икон, остававшуюся периферийной в исследованиях того времени, поддержал писатель Н. С. Лесков. В 1873 г. опубликованы две критико-публицистические работы Лескова «Об адописных иконах» и «О русской иконописи». Если первая имела характер заметки об «адовой писанине», ее характерных отличиях и версиях ее появления, то вторая представляла собой глубокое рассуждение о русской иконописи.
Лесков, отец которого был выходцем из духовной среды, с детства был знаком с церковным бытом [Лесков 1984, 144], однако интерес к иконописи, граничащий с исследовательским вниманием, пришел к писателю позже. Согласно самому Лескову, иконографией он всерьез занялся на рубеже 1860-1870-х гг. «от скуки и бездействия», связанного с вынужденным отрывом от литературной деятельности после выхода романа «Некуда» [Лесков 1984, 397]. Поспособствовать увлечению могло и проведенное писателем в начале 60-х гг. изучение раскольничьего быта, которым он занимался в связи с официальными поручениями по своей журналистской деятельности.
Поводом для статьи «О русской иконописи» послужил отзыв одного из читателей на заметку «Об адописных иконах», в котором он писал, что «“икона для простолюдина имеет такое же важное значение, как книга для грамотного”» [Лесков 2014b, 319]. Лесков разделял мнение читателя, считая, что икона выполняет крайне важную просвещенческую функцию для малообразованных слоев населения. Особо писатель отмечал «иконы с деяниями», представляющие собой полноценные истории. Вместе с тем, Лесков сетовал на плачевное состояние икон, что ранее уже отмечалось другими исследователями древности, в особенности Сахаровым: «Упадком этого искусства и даже окончательным низведением его к нынешнему безобразию и ничтожеству у церкви, очевидно, отнимается одно из самых удобных средств распространения в народе знакомства с священною исто-
рию и деяниями святых» [Лесков 2014b, 319].
С Сахаровым у Лескова можно заметить особую близость взглядов. Оба — выходцы из духовной среды, оба ценители древнерусского искусства, видевшие в нем не только религиозную красоту, но и художественную, которая заключается в особом способе изображения, подготовки к нему, в тесной связи с искусством Византии. Как и Сахаров, Лесков ратовал за сохранение русского стиля письма икон, подразумевая под этим и сохранение традиций приготовления красок, и специфику самого «письма», имеющего «свой типический, чисто русский характер» [Лесков 2014b, 319]. В качестве типично русских красок Лесков называл те, что растворены на яйце. Работа с ними отличается от рисования масляными красками [Лесков 2014b, 323]. Впоследствии те же рассуждения встречаем у Марка в повести «Запечатленный ангел»: «...у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там ваны на яйце растворенные и нежные...» [Лесков 2014а, 32]. Сахаров считал, что валы на яйце существуют на Руси издревле и перешли от Византии. Их особенностью является нежность и свежесть письма [Сахаров 1849b, 30].
В отличие от Ф. И. Буслаева, защищавшего иконопись и чувствующего ее силу, но замечающего недостатки и ошибки рисунка, Лесков настаивал на том, что старинные иконы писались по высокой технике, которую необходимо продолжать соблюдать. Для этого, по мысли писателя, необходимо устроить иконописные отделения при Академии художеств и Московской художественной школе [Лесков 2014b, 321] или провести иконописный конкурс, который привлек бы внимание общественности к древнему искусству, поспособствовал его сохранению [Лесков 2014b, 322]. И Лесков, и Сахаров были уверены в том, что невежество современных иконописцев происходит из недостатка образования: «без этой инструкции иконописа-ния, и самый заохоченный к иконописному делу художник будет поставлен в очень большие затруднения» [Лесков 2014b, 323], «иконописание как классическое художество может существовать со славою только там, где есть образованные иконописцы-художники» [Сахаров 1849b, 19], при этом оба подчеркивали, что изучение технической части (создание красок, подготовка левкаса и т.п.) не должно быть «секретничаньем» [Лесков 2014b, 324], ведь «наука не должна состоять из секретов» [Сахаров 1849b, 23]. Помимо способов улучшения производства икон, писатель представил ряд действий по «распространению хороших и вытеснению икон плохих» [Лесков 2014b, 322]. В первую очередь он отмечал, что «иконы надо писать руками иконописцев <...>, но надо писать их лучше, чем они пишутся, и строго по русскому иконописному подлиннику» [Лесков, 2014b, 321]. Издание подлинников по типу греческой ерминии (Лесков знал о книге Дидрона, считая, что она «имеет живое значение» [Лесков 2014b, 323]) он считал обязательным условием восстановления иконописания. Напомним, что именно такой же идеи придерживался Сахаров. Вероятно, Лесков, хорошо знавший работы современных исследователей иконописи, апеллировал не только к видимым им проблемам в данной области, но и при напи- сании статьи опирался на его труд, который упоминается в ней. Неслучайным представляется и то, что подлинник, помещенный в книге Сахарова, был использован писателем при создании его известнейшей повести «Запечатленный ангел» (1873 г), которую исследователи характеризуют как «словесную икону» [Голубинская, Евдокимова 2018]. Так, в повести находим целые фрагменты, заимствованные Лесковым из работы Сахарова: исполнение малой иконы «Рождество Богородицы» почти целиком взято писателем из подлинника (сравним: «Св. Анна на одре лежит; пред ней девицы стоят: одни держат дары, а иные солнечник и свещи. Едина девица держит св. Анну под плечи. Иоаким зрит из верхния палаты. Баба св. Богородицу омывает в купели до пояса; посторонь девица льет из сосуда воду в купель» [Сахаров 1850b, 13] и «...святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую богородицу омывает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель» [Лесков 2014а, 51]), а описание «киевского изображения» (иконы Св. Софии Премудрости Божьей) взято в сокращенном варианте из рассуждения о греческих иконах (сравним: [Сахаров 1849b, 32-33] и [Лесков 2014а, 35]). Аналитико-синтетический подход в работе с подлинниками, разработанный Сахаровым, предполагал, что иконописцу недостаточно одного текста для создания необходимого художественноэстетического эффекта иконы. Он мог послужить причиной того, почему Лесков обращался к разным подлинникам во время написания «Запечатленного ангела».
Как и исследователи того времени, писатель активно общался со старообрядцами, благодаря которым узнавал тонкости создания икон по древним образцам и видел красочность их письма. Выделить стоит общение Лескова со старообрядцем строгановской школы Н. С. Рачейсковым, им упоминаются также В. М. Пешехонов, Н. М. Силачев [Лесков 2014b, 322]. Особое внимание писатель обращал на современные иконописные собрания (часть которых отмечена им в статье, другие—в письмах), на открытие музеев [Лесков 2014В, 319]. В. И. Успенский в книге «Очерки по истории иконописания» (1899 г.) неоднократно ссылается на публикуемые Лесковым заметки о собрании А. М. Постникова, которое, по мнению писателя, единственно представляет хорошо организованную коллекцию, по которой можно «проходить наглядно историю русской иконописи» [Успенский 1899, 42], что отличает ее от музеев.
И Сахаров, и Лесков в области изучения иконописи остаются в тени исследователей XIX в., однако именно они, любители, смогли увидеть в иконе не только предмет исторического анализа, религиозный объект, но и художественно-эстетический. Плодотворно более глубокое изучение наследия Сахарова как в связи с состоянием науки об иконописи в XIX в., так и в связи с творчеством Лескова. Выявленные пересечения во взглядах Сахарова и Лескова послужат опорой при изучении тех произведений
писателя, центральное место в которых занимают приемы иконописного изображения.
Список литературы И. П. Сахаров и Н. С. Лесков у истоков художественноэстетического понимания русской иконописи
- Буслаев Ф. И. Общие понятия о русской иконописи. М.: Тип. Грачева и К°, 1866. 106 с.
- Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М.: Искусство, 1986. 384 с.
- Володина Т. А. Иван Петрович Сахаров: тульский «Посадский человек» в российской науке // Новый исторический вестник. 2020. № 2. С. 110-130.
- Голубинская Ю. А., Евдокимова О. В. «Умозрение в красках»: икона в творчестве Н. С. Лескова и в трудах русских религиозных философов конца XIX — начала XX в. (Е. Н. Трубецкой) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2018. № 5. С. 164-168.
- Григоров Д. А. Русский иконописный подлинник // Записки императорского русского археологического общества. Т. 3. Вып. 1. СПб.: Типография императорской академии наук, 1887. С. 21-168.
- Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1984. 498 с.
- (a) Лесков Н. С. Запечатленный ангел // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 12. М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. С. 7-66.
- (b) Лесков Н. С. О русской иконописи // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 12. М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. С. 318-326.
- Маслов К. И. Проект И. П. Сахарова по возрождению иконописания // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2015. № 3. С. 249-258.
- Наумова Т. В. Археологические древности и тульская интеллигенция первой половины XIX в. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2014. № 3. С. 115-126.
- Полякова М. А. Подходы к изучению культурного наследия России в XVIII — начале XX века // Вестник РГГУ 2008. № 10. С. 257-266.
- Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века. Описание фейерверков и иллюминации. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903. 330 с.
- (a) Сахаров И. П. Предисловие // Исследования о русском иконописании. Книжка первая. Изд. 2-е. СПб.: Тип. Якова Трея, 1850. С. 5-8.
- (b) Сахаров И. П. Подлинник. Часть первая // Исследования о русском иконописании. Книжка первая. Изд. 2-е. СПб.: Типография Якова Трея, 1850. С. 1-28.
- (с) Сахаров И. П. Подлинник. Часть вторая // Исследования о русском иконописании. Книжка первая. Изд. 2-е. СПб.: Типография Якова Трея, 1850. С. 1-16.
- (a) Сахаров И. П. Школы русского иконописания // Исследования о русском иконописании. Книжка вторая. СПб.: Типография Якова Трея, 1849. С. 1-59.
- (b) Сахаров И. П. Приложения // Исследования о русском иконописании. Книжка вторая. СПб.: Типография Якова Трея, 1849. С. 1-47.
- Соловей Т. Д. Дискурс о «народности» в XIX в.: структура и эволюция // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2016. № 4. С. 49-63.
- Успенский В. И. Очерки по истории иконописания. СПб.: Синод. тип., 1899. 80 с.
- Филимонов Г. Д. Симон Ушаков и современная ему эпоха русской иконописи. М.: Общество древнерусского искусства при Московском Публичном музее, 1873. 104 с.