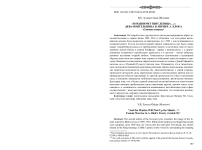"И поднимет щит девица…": дева-воительница в лирике А. Блока (статья вторая)
Автор: Зусева-Озкан Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
Во второй статье двухчастного цикла рассматривается образ девы-воительницы в лирике Блока 1905-1916 гг. Показано, что если ранее вагнеровские мотивы были вынесены на маргиналии, то с 1905 г. они встраиваются в основной сюжет. И если для более ранней лирики главными из них были пламя вокруг спящей Брунгильды и ее пробуждение героем, то во втором томе их место занимает мотив измены и смерти Зигфрида - наряду с анамнесисом, т. е. припоминанием (утерянного героического прошлого), а в третьем - мотив забвения, рокового неузнания «первой любви». Описывается соотношение с валькирией образов девы-змеи (во втором томе лирики) и лебединой девы (во втором и третьем). Выявляется соположение образа воительницы не только с Девой Марией и ангелом, но и с Родиной (Русью) в третьем томе. Указывается, что в типологическом отношении блоковская креативная рецепция образа воительницы включает две сюжетные возможности, казалось бы, противоположные: с одной стороны, происходит испытание силы лирическим героем и воительницей, причем оно сопровождается гибелью персонажей, а с другой, происходит их отказ от испытания силы, и поединок замещается любовным преследованием, эротическим поиском. Благодаря тому, что у Блока главной сюжетной коллизией является гностическая коллизия спасения, пробуждения одного персонажа другим, причем статус «спасающего» и «спасаемого» оказывается меняющимся, нестабильным (как и факт осуществления / неосуществления интенции спасения), эти сюжетные возможности чередуются, мерцают, взаимоотражаются.
Воительница, валькирия, брунгильда, вагнер, вл. соловьев, гностический миф, лебединая дева, змея
Короткий адрес: https://sciup.org/149127212
IDR: 149127212 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00101
Текст научной статьи "И поднимет щит девица…": дева-воительница в лирике А. Блока (статья вторая)
В первой статье цикла речь шла о воительнице и связанном с ней мо-тивно-сюжетном комплексе в ранней блоковской лирике (1898-1904). В стихах второго тома «канонической» трехтомной структуры лирики Блока сохраняется образ героя как воина - необходимого участника пары «равных», но принципиальная разница по сравнению с ранней лирикой состоит в том, что теперь это, как правило, воин побежденный, раненый, умирающий («Сын и мать», 4 октября 1906) или умерший, пребывающий во сне или даже пародийно сниженный («Балаганчик», июль 1905) - словом, находящийся в фазе затмения, упадка. Примечательно также, что если в первом томе вагнеровские мотивы были, так сказать, вынесены на маргиналии, то теперь они встраиваются в основной сюжет. И если для более ранней лирики центральными вагнеровскими мотивами являлись пламя вокруг (нередко спящей) героини и ее пробуждение героем, то во втором томе их место занимает мотив измены Зигфрида и, в результате, его смерти. При этом в ряде стихотворений содержится и надежда на грядущее спасение героя героиней, так что эта фаза нередко осознается как временная.
Мотивы лирики первого тома появляются во втором как отблеск прошлого, в рамках темы «иных времен», где лирический герой был действительно «героем». На сопоставлении двух времен и идее «вечного возвращения», принципиальной уже в конце первого тома («Дали слепы, дни безгневны...»), строится поэма «Ночная Фиалка» (1905-1906) с ее скандинавскими мотивами (как известно, восходящими отчасти к «Северной симфонии» А. Белого). Герой, пребывающий во сне, «припоминает» героическое прошлое, в котором он был «Стройным юношей, храбрым героем, / Обольстителем северных дев» [Блок 1997-, II, 31].
Образ темного двойника, своего рода полумертвеца, в которого обращается прежний светлый воин, возникает и в стихотворениях «Я живу в глубоком покое...» (15 июня 1904), «Поет, краснея, медь. Над горном...» (4 июля 1904) - наряду с мотивом припоминания героического прошлого героем, спящим мертвым сном, как в «Ночной Фиалке», и вагнеровской реминисценцией «рога заблудившегося героя» (Зигфрида). Этот комплекс мотивов крайне устойчив во втором томе; содержится он и в стихотворении «Бред» (4 ноября 1905), которое Д.М. Магомедова интерпретирует как воспроизведение «сцены из “Гибели богов”, где к Зигфриду, изменившему Брюнгильде, возвращается память под действием волшебного напитка, а его рассказ о встрече с ней кончается гибелью героя» [Магомедова 1997, 92]:
Так слушай, как память остра, -Недаром я в смертном бреду...
Вчера еще были, вчера Заветные лес и гора...
Я Белую Деву искал -
Ты слышишь? Ты веришь? Ты спишь? Я Древнюю Деву искал, И рог мой раскатом звучал.
Я твердой стопою всхожу -О, слушай предсмертный завет!... В последний тебе расскажу: Я Белую Деву бужу!
Мы были, - но мы отошли, И помню я звук похорон: Как гроб мой тяжелый несли, Как сыпались комья земли.
[Блок 1997-, II, 68-69]
Очевидно, здесь воспроизводится центральная мифологема первого тома - пробуждение сонной девы героем, но принципиально, что подвиг отнесен к радикально прошедшему, тогда как в условно настоящем герой находится в сонном бреду, который также предстает как смерть (как в лермонтовском «Сне»), Здесь ситуация приобретает максимальный драматизм: спящими оказываются оба протагониста («Ты слышишь? Ты веришь? Ты спишь?»; «Мы были, - но мы отошли»), и спасению, таким образом, прийти неоткуда.
Несколько иначе завершается стихотворение «Всё так же бродим по земле...» (17 октября 1905), где герой находится под покровительством героини - крылатого «Ангела-лебедя». Напомним, что валькирии - «лебединые девы»: «В эддическом цикле о Сигурде Брюнхильд упоминает лебединое одеяние в связи с тем моментом своей биографии, который позволяет отождествить ее с валькирией Сигрдривой...» [Гвоздецкая 2011, 71]; «Лебединый облик валькирий принято приписывать и первоначальной связи с богом неба Тюром, который некогда возглавлял мифический пантеон, но впоследствии был вытеснен <.. > Одином» [Гвоздецкая 2011, 72], причем таким обликом «наделяются именно те валькирии, которые из мира Вальгаллы перешли в мир людей, обрели земные черты» [Гвоздецкая 2011, 75], обладают «двойной природой, сверхъестественной и естественной» [Гвоздецкая 2011, 78], обеспечивающей их браку с героем «священный», «сакральный» характер. Всё это черты, характерные и для автобиографического мифа Блока с запечатлевшимся в нем гностическим сюжетом.
В обсуждаемом стихотворении лебедь сонный, спящий, так что, неразрывно связанные, герой и героиня терпят поражение в битве жизни, однако потом возносятся обратно в родную высшую стихию:
Всё так же бродим по земле Ты - Ангел, спящий непробудно, А я - незнающий и скудный, В твоем завернутый крыле.
Но будем вместе. Лебедь сонный Ия- повержен вслед за ним -Как дым кадильный, благовонный, К началам взнесшийся своим.
[Блок 1997-, IV, 190]
В стихах конца 1906 - 1907 гг. появляется мотив героического дерзновения, по-вагнеровски и по-зигфридовски «активного, волевого, действенного отношения к миру» [Магомедова 1997, 89]. Так, в стихотворении «Так окрыленно, так напевно...» (октябрь 1906) царевна провожает героя-воина в путь и на грядущие битвы:
Да, я готова к поздней встрече, Навстречу руки протяну Тебе, несущему из сечи На острие копья - весну.
[Блок 1997-, II, 84]
Источником этого стихотворения считается «Легенда о прекрасном Пекопене и о прекрасной Больдур» В. Гюго, но нам представляется, что есть и еще один: эта сцена весьма напоминает прощание Зигфрида и Брун- гильды в «Гибели богов», когда герой отправляется «на подвиг». В обоих случаях это ситуация взаимных клятв в вечной любви и ожидании, причем героиня остается в своем терему / на горе (в отдаленной и возвышенной точке пространства), но обещает издалека хранить солярного героя (так, Брунгильда вручает герою не только знание рун, но и коня Гране и щит). Герой же отправляется на воинские подвиги, в результате которых должна воцариться «огненная весна» - ср. реплики Зигфрида и Брунгильды: «Слава Брингильде - яркой звезде!», «Слава - Зигфрид, / Ясный мой свет!», оба: «Ты жизнь и свет!» [Вагнер 1904, 7]; Зигфрид сам уподоблен весне и огню: «О, Зигфрид! Зигфрид! / Светлый герой! / Ты жизнь пробуждаешь / Светом своим!» [Вагнер 1905, 40]). В обоих случаях звучит радостная, победная нота - см. ремарку в «Гибели богов»: «...Брингильда долго в восторге следит за ним с края скалы. Из глубины доносятся веселые звуки рога Зигфрида» [Вагнер 1904, 7].
В разделе «Город» второго тома героиня Блока, в том числе героиня, наделенная валькириеподобными чертами, начинает ассоциироваться с образом змеи (способностью к оборотничеству валькирии характеризуются и в «Эдде», причем и там есть ассоциации со змеями [Гвоздецкая 2005, 81, 82]). По мнению Н.Ю. Грякаловой, «Блок следует сказочно-мифологической традиции, в которой змея связана с огнем, а змей предстает как существо огневое...» [Грякалова 1987, 61]. Однако исследовательница связывает змею исключительно с демоническими образами блоковской поэзии, тогда как, по нашему мнению, положение дел в действительности сложнее. В стихотворении «Иду - и всё мимолетно...»(9 марта 1905) героиня, действительно, оборачивается своей темной, демонической стороной:
Не встречу ли оборотня?
Не увижу ли красной подруги моей?
И - внезапно - тенью гадательной -Вольная дева в огненном плаще!..
В огненном! Выйди за поворот: На глазах твоих повязка лежит еще... И она тебя кольцом неразлучным сожмет В змеином логовище.
[Блок 1997-, II, 111]
Но демонизмом змееподобная героиня у Блока отнюдь не исчерпывается. Особенно явной ассоциация змеи и валькирии станет в разделе «Фаина», в частности, в стихотворении «За холмом отзвенели упругие латы...» (2 апреля 1907), где героиня амбивалентна и выступает как спасительница героя:
Если близкое утро пророчит мне гибель, Неужели твой голос молчит?
Чую, там, под холмами, на горном изгибе Лик твой молнийный гневом горит!
Воротясь, ты направишь копье полуночи Солнцебогу веселому в грудь.
Я увижу в змеиных кудрях твои очи, Я услышу твой голос: «Забудь».
Надо мною ты в синем своем покрывале, С исцеляющим жалом - змея...
Мы узнаем с тобою, что прежде знавали, Под неверным мерцаньем копья!
[Блок 1997-, II, 178]
По нашему мнению, здесь, как и в парном стихотворении «Ты пробуждалась утром рано...», написанном, по-видимому тогда же, в апреле-мае 1907 г, создается вольная вариация на вагнеровскую тему - вариация с синкретичным героем. Если мотив поражения в битве со всеми отмечавшимися отсылками к опере «Валькирия» (копье, отсылающее к копью Вотана; реплика героини «Забудь», соотносящаяся со словами Брунгильды «Лишь обреченным / Я являюсь. / Кто зрел меня, / Тому умереть суждено» [Вагнер 1900, 22], и др.) напоминает о Зигмунде, то мотив любовной связи героя и героини, несомненно, возвращает нас к Зигфриду В черновом варианте, как обычно у Блока, более отчетливо: «И потом, на холмы насылая туманы, / Ты, Валкирия, Дева-Змея, / Будешь страстью лечить мои знойные раны / Под неверным мерцаньем копья» [Блок 1997-, II, 465]. В результате возникает синкретичный сюжет, в рамках которого герой оказывается спасен полубожественной героиней, «направляющей копье полуночи» в грудь самому «Солнцебогу». Что интересно, героиня, как отчасти и герой («золотой шлем», обычный атрибут солярного блоковского героя, уж на нем «не сияет»), оказывается отнесена к ночному, темному полюсу, соотносящемуся с мотивами зноя и страсти. Всё это сочетается с тем порывом героического дерзновения, вызовом, брошенным миру и судьбе (здесь явленной в образе светлых богов-асов), которые составляют отличительную черту лирики Блока этого периода.
В стихотворении «Ты пробуждалась утром рано...», вынесенном за пределы трехтомной структуры блоковской лирики, этот вызов тоже ощущается:
Довольно жить в разлуке прежней -Не выйдешь из дому с утра.
Я всё влюбленней и мятежней
Смотрю в глаза твои, сестра!
Учи меня дневному бою -Уже не прежний отрок я, И миру тесному открою Полет свободного копья! [Блок 1997- IV, 197]
Здесь тоже в один ряд выстроены и приписаны одному герою те части сюжета, что связаны у Вагнера с Зигмундом, с одной стороны, и Зигфридом, с другой. Так, речь идет о бранной доблести и славе героини, и слова «А я, чуть отрок, слушал толки / Про силу дивную твою, / И шевелил мечей осколки, / Тобой разбросанных в бою» [Блок 1997-, IV, 197] вроде бы должны относиться к Зигфриду, который еще даже не родился во времена высшей славы Брунгильды как валькирии и которому достались от отца Зигмунда осколки меча. При этом лирический герой называет героиню сестрой, как мог бы назвать ее именно Зигмунд (Брунгильда сестра Зигмунду и Зиглинде, поскольку все они - дети бога Вотана; но одновременно здесь имеет место слияние образов Брунгильды и Зиглинды). Обращенная к героине просьба «Учи меня дневному бою» отсылает к Зигфриду, которого Брунгильда научила всяческой мудрости. Интересно, что у Вагнера Брунгильда влюблена сначала в самого Зигмунда (или, сказать осторожнее, восхищена им), а уже впоследствии в Зигфрида; по-видимому, этот намек на двойничество героев (существующий и в мифе, но в иной форме) был воспринят Блоком - как можно судить по синкретичное™ мужского персонажа в обсуждаемых стихотворениях. По-видимому, это тоже знак вечного возвращения, «припоминания».
Но не всегда воительница у Блока выступает союзницей и спасительницей героя. Так, в стихотворении «Снежная дева» (17 октября 1907), где присутствует сюжет любви-вражды, архетипически связанный с такой героиней, страсть героя оказывается односторонней - в соответствии с другим источником (сказкой Андерсена):
Она глядит мне прямо в очи, Хваля неробкого врага.
С полей ее холодной ночи
В мой дух врываются снега.
Но сердце Снежной Девы немо И никогда не примет меч, Чтобы ремень стального шлема Рукою страстною рассечь.
И я, как вождь враждебной рати, Всегда закованный в броню, Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню. [Блок 1997- II, 182-183]
Отметим очень явное сочетание в героине этого стихотворения черт Софии и валькирии (обычно более приглушенное у Блока): с одной стороны, ее родиной назван Египет - где некогда София, «подруга вечная», явилась на третье свидание к герою поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» (1898), а с другой, она названа «снежной» (т. е., очевидно, северной) девой и «пришла из дикой дали» («дикий» - эпитет, постоянно применяющийся к валькириям и воительницам вообще), принадлежит «небосклону», но «ночному» и «бурному».
«Вражда» героя и воительницы отчетливо доминирует над «любовью» в цикле «Заклятие огнем и мраком» (октябрь-ноябрь 1907), чье название отсылает к тетралогии Вагнера (в 3-м акте «Валькирии» Логе совершает такое заклятие, окружая морем огня скалу Брунгильды со спящей на ее вершине героиней). В первом стихотворении цикла встречаем все мотивы этого комплекса: центральный топос любви-вражды, героиня, уподобленная змее и буре (и - расширительно - стихии и свободе), герой, уподобленный воину, смелый вызов жизни - даже в виду провидения грядущей гибели, мотив весны;
О, весна без конца и без краю -Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!
И встречаю тебя у порога -С буйным ветром в змеиных кудрях,
Перед этой враждующей встречей Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами - хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю, Ненавидя, кляня и любя: За мученья, за гибель - я знаю -Все равно: принимаю тебя!
[Блок 1997-, II, 185-186]
Во втором стихотворении цикла подхвачены мотивы вызова жизни, огня, из которого выступает облик героини, грядущей гибели героя - непосредственно или косвенно от рук героини (как погиб и Зигфрид), причем

герой, как нередко у Блока, уподоблен Христу В восьмом стихотворении бешеный танец героини напоминает полет валькирии; она выступает и вестницей смерти, и глашатаем свободы:
Земля убегает, скрывается твердь, И словно безумье, и словно мученье, Забвенье и удаль, смятенье и смерть, -Ты мчишься! Ты мчишься!
Ты бросила руки
Вперед...
[Блок 1997-, II, 193]
В стихотворении «Ушла. Но гиацинты ждали...» (31 марта 1907) образ героини-змеи опять же связывается с мотивами любви-борьбы, рока и гибели, ожидающей героя даже от любящей его героини. Причем в ней противопоставлены женственность (слабость рук, тонкость талии, матовость плеч), идущая из современности, из дольнего мира, и древняя, тайная природа, забытая ею самой, но прозреваемая, «припоминаемая» героем:
Но в имени твоем - безмерность,
И рыжий сумрак глаз твоих
Таит змеиную неверность
И ночь преданий грозовых.
И, миру дольнему подвластна, Меж всех - не знаешь ты одна, Каким раденьям ты причастна, Какою верой крещена.
Войди, своей не зная воли,
И, добрая, в глаза взгляни, И темным взором острой боли Живое сердце полосни.
Вползи ко мне змеей ползучей, в глухую полночь оглуши... [Блок 1997-, II, 177]
Формулой «дольний мир» связано с этим стихотворением хрестоматийное «Я в дольний мир вошла, как в ложу...», где слабым эхом образа воительницы выступает топос победительной силы (отозвавшийся также в образе Фаины из пьесы «Песня Судьбы» - героини, в большой степени вдохновленной образом валькирии): «И все, кто властен и ничтожен, / Опустят предо мной мечи» [Блок 1997-, II, 176]. О связанном с воительницей комплексе представлений напоминают и мотивы грозы, огня, крыла- тости, опрокинутое™ «в выси».
Учитывая вписанность образа воительницы в автобиографический миф Блока с его гностической подосновой, с одной стороны, и частые параллели с образом змеи, с другой, крайне важно то, что пишет о змее у гностиков Д.М. Магомедова: «Мотив героини-змеи, столь важный для лирики всего II тома <...>, имеет соответствие в гностической мифологии. Речь идет об офитах-змеепоклонниках, в учении которых змею принадлежит двойственная роль: чаще всего змей - это сама София, которая одновременно и противопоставлена творцу, и приносит людям знание, Блоку этот вариант гностического мифа был хорошо знаком по знаменитому стихотворению Вл. Соловьева “Песня офитов”» [Магомедова 1997, 81]. Той же двойственностью отмечена и героиня-змея у Блока: с одной стороны, она являет собой темный полюс (противопоставлена «Солнцебогу» либо губит солярного героя, несмотря на свою любовь к нему - момент, отмечавшийся Н.Ю. Гвоздецкой как константа, связанная с образом валькирии в «Эдде»), а с другой, она светлого героя спасает, дарит ему мудрость и силу. Она и представляет темную, демоническую сторону жизни, и воплощает жизненную стихию во всей ее победительной сложности.
В наименьшей степени образ воительницы значим в третьем томе лирики: здесь нет стихотворений, в которых она представала бы как целостная фигура, определенный персонаж, как это было во втором томе и даже в первом; скорее, черты, характерные для ее образа у Блока, рассеяны, фрагментированы, приданы ряду героинь. Так, в восьмом стихотворении цикла «Черная кровь» (октябрь 1909), где вампирический герой празднует победу над героиней, использованы некоторые топосы, до сих пор связывавшиеся с сюжетом любви-вражды двух сильных: строка «Я ее победил наконец!» [Блок 1997-, III, 36] навевает воинские - в принципе, не свойственные данному циклу - ассоциации благодаря соседству с метафорами боя («А в провале глухих окон / Смутный шелест многих знамен, / Звон, и трубы, и конский топ...» [Блок 1997-, III, 37]). Явно вампирические строки: «Я кладу тебя в гроб и пою, - / Мглистой ночью о нежной весне / Будет петь твоя кровь во мне!» - напоминают также о спящей героине, долженствующей быть пробужденной солярным героем с весной «на острие копья». Кольцо, столь значимое для предметного мира этого стихотворения, заставляет вспомнить о другом кольце - которое Зигфрид некогда подарил Брунгильде в знак любви и которое погубило его. В черновиках эти ассоциации подкреплены сильнее. Так, в первом черновом автографе друг за другом идут строки, в большей степени создающие картину боя, поединка:
На змеистых бровях вопрос, Был пожар, сраженье, полет И обуглен кровавый рот, За глухим затвором окон Точно шелест многих знамен, Храп коней, завыванье труб [Блок 1997-, III, 255-256], - тогда как в итоговой редакции героиня предстает более беззащитной, а победа демонического героя - менее буквальной и скорее означает победу над ее душой.
Схожий набор мотивов встречаем в еще одном «вампирическом» стихотворении (явно ориентированном на Данте) - «Песни Ада». Герой-поэт видит в аду своего двойника - некогда погруженного в разврат «страшного мира» «мертвеца», который рассказывает ему, что был пробужден от «глубины невиданного сна» «карающим гневом», воплотившимся в облике «чудесной жены»:
Всплеснулась, ослепила, засияла Передо мной - чудесная жена!
В вечернем звоне хрупкого бокала,
В тумане хмельном встретившись на миг С единственной, кто ласки презирала,
Я ликованье первое постиг!
[Блок 1997-, III, 12]
Принципиальны формула «единственная, кто ласки презирала», архетипическая для героини-воительницы, и мотив пробуждения. Но, видимо, страсть сама по себе воспринимается как «вампирическое», демоническое, темное чувство, ибо герой-вампир неизбежно вынужден «пить кровь» героини.
К нам доносился погребальный звон; Язык огня взлетел, свистя, над нами, Чтоб сжечь ненужность прерванных времен!
И - сомкнутых безмерными цепями -Нас некий вихрь увлек в подземный мир! [Блок 1997-, III, 13]
Отметим здесь мотивы языков огня, вечную связанность героев и совместный переход в иной мир - как вместе уходят в огне мертвый Зигфрид и бросающаяся за ним вслед Брунгильда (причем «ненужность прерванных времен» буквально сжигается в пламени Рагнарёка); напомним также об эддической песни «Поездка Брюнхильд в Хель» (вслед за Сигурдом): полубожественные герой и героиня оказываются в подземном мире, а не в небесной Вальгалле, для которой вроде бы предназначены. У Блока и герой, и героиня «окованы навек глухими снами» без надежды на пробуждение (как и в стихотворении «Бред»),
Фрагментированию образа воительницы соответствует распад образа героя как воина. Если в первом и втором томах лирики герой крайне часто представал в этом облике, то в третьем томе это происходит значительно реже и, как правило, в логике негации и предощущении гибели - см., например, стихотворение «Ты в комнате один сидишь...» (март 1909), где образ героя распадается на двойников - прежнего рыцаря Прекрасной Дамы, по-видимому изменившего «первой любви», и нынешнего полумертвеца.
Даже и мотив дерзновенного вызова року, характерный для стихов 1906-1907 гг. и тоже напрямую связанный с вагнеровскими образами, в третьем томе получает отчетливый отсвет обреченности и связывается с иным источником. Речь идет о «Шагах Командора» (1910-1912), где спящая царевна / заколдованная валькирия первого и второго томов превращается в Донну Анну из пушкинского «Дон Гуана», герой вновь предстает «изменником» (причем зигфридовскому рогу соответствует здесь «победный и влюбленный» рожок автомобиля) и персонажи разделены смертной чертой:
Жизнь пуста, безумна и бездонна! Выходи на битву, старый рок! И в ответ - победно и влюбленно -В снежной мгле поет рожок...
Дева Света! Где ты, донна Анна? Анна! Анна! - Тишина.
Только в грозном утреннем тумане Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет. Анна встанет в смертный час.
[Блок 1997-, III, 51]
Волшебное «море огня», через которое прошел Зигфрид на пути к Брунгильде, начинает во втором томе превращаться в огонь погребальный, а в третьем прямо становится огнем преисподней: «Я стою среди пожарищ, / Обожженный языками / Преисподнего огня» [Блок 1997-, III, 54]. Нарастает разочарование, даже разуверенье в своем высоком предназначении и якобы обещанной судьбе, светлой возлюбленной; эти настроения отразились в стихотворении «Не венчал мою голову траурный лавр...» (1909-1910), где сон героя не имеет конца, а божественных прозрений будто бы никогда и не было. Принципиально, что в черновых вариантах символом утерянной либо никогда не существовавшей высокой судьбы оказывается валькирия, чей крылатый, грозноликий, копьеносный облик так схож с внешностью героинь из стихотворений «За холмом отзвенели упругие латы...» и «Ты пробуждалась утром рано...» (ср.: «Не мерцал мне за мглой грозный лик огневой / С золотым напряженным копьем», «Два крыла...» [Блок 1997-, III, 418]).
Тем не менее, несмотря на нарастающие мрачные настроения, в ряде стихотворений сохраняются воспоминания о прошлом и надежды на прощение. Лирический герой, хотя его и «душит жизни сон тяжелый», не забывает до конца, что, подобно изменившему Зигфриду, все-таки изначально «он весь - дитя добра и света, / Он весь - свободы торжество!» [Блок 1997-, III, 57]. В стихотворении «Когда замрут отчаянье и злоба...» (1 августа 1908) герой и героиня оба спят зачарованным сном (знакомый со второго тома мотив), разделенные и всё же взаимно хранимые памятью, причем с героиней по-прежнему связывается мотив огня на горе:
Ты обо мне, быть может, грезишь в эти Часы. Идут часы походкою столетий, И сны встают в земной дали.
Всё та же ты, какой цвела когда-то, Там, над горой туманной и зубчатой, В лучах немеркнущей зари.
[Блок 1997-, III, 92]
В следующем сразу за этим стихотворении «Ты так светла, как снег невинный...» (ноябрь-декабрь 1908), явно ориентированном на стихотворение Вл. Соловьева «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875-1876), герой выражает надежду на возвращение к первой любви и прощение, которое будет ему даровано. Ср. у Соловьева:
И бросает она свой алмазный венец, Оставляет чертог золотой
И к неверному другу, - нежданный пришлец, Благодатной стучится рукой.
И над мрачной зимой молодая весна -Вся сияя, склонилась над ним
И покрыла его, тихой ласки полна, Лучезарным покровом своим.
«Знаю, воля твоя волн морских не верней:
Ты мне верность клялся сохранить, Клятве ты изменил, - но изменой своей
Мог ли сердце мое изменить?» [Соловьев 1974, 62]
У Блока - те же мотивы стука в дверь, прощения «неверного друга», протянутых рук, прихода весны, образ чудесной героини (которая, как уже говорилось в первой статье цикла, у Соловьева отчасти воительница):
Быть может, путник запоздалый, В твой тихий терем постучу.
За те погибельные муки Неверного сама простишь. Изменнику протянешь руки. Весной далекой наградишь. [Блок 1997-, III, 92]
Как бы ответом на это стихотворение является другое - «О, нет! не расколдуешь сердца ты...» (1913), где изменившей оказывается именно героиня. Здесь вновь возникает важнейший мотив спящей героини, но, в результате ее собственной измены первой любви, будить ее придет тот, кто окажется не предназначенным судьбой героем, а самозванцем (ср. ситуацию Зигфрид / Гунтер):
Забудешь ты мою могилу, имя...
И вдруг - очнешься: пусто; нет огня; И в этот час, под ласками чужими, Припомнишь ты и призовешь - меня!
Как исступленно ты протянешь руки В глухую ночь, о, бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки К утешенным весной небытия. [Блок 1997-, III, 102-103]
Обратим внимание на мотив отсутствия огня - ввиду того, что пламя связывается у Блока с освобождением спящей героини - и тему Орфея и Эвридики (которая, как известно, была для Блока еще одним обличьем мифа о Софии - пленной душе мира, которая должна быть спасена героем: Орфеем, Зигфридом, Персеем, св. Георгием), только в «перевернутом» виде. Здесь не спящая мертвым сном героиня обращается к пытающемуся спасти ее герою (ср., например, у Брюсова: «Ах, что значат все напевы / Знавшим тайну тишины! / Что весна, - кто видел севы / Асфоделевой страны!» [Брюсов 1973, 386]), а напротив, герой предостерегает героиню о невозможности возврата в прежний мир.
Если в первом томе важнейшим вагнеровским мотивом было пробуждение героем Брунгильды, во втором - измена и смерть Зигфрида, то в третьем - забвение (мотив, уже отмечавшийся как принципиальный для третьего тома лирики [Максимов 1975, 114-121]). В стихотворении «Где отдается в длинных залах...» (июль 1910), где демоническая героиня бросает герою цветок, таящий отраву забвенья (подобно тому как Гутруна дает Зигфриду напиток, из-за которого он забывает Брунгильду), звучит
Не поднимай цветка: в нем сладость Забвенья всех прошедших дней, И вся неистовая радость Грядущей гибели твоей!..
предостережение:
Там всё - игра огня и рока, И только в горький час обид Из невозвратного далека Печальный Ангел просквозит... [Блок 1997-, III, 131]
Отметим мотив огня, который здесь, как и вообще в третьем томе, предстает не волшебным пламенем-зарей вокруг спящей Души Мира, но адским огнем, и образ ангела, который посредством вагнеровских ассоциаций связывается с героиней-валькирией.
Интересно, что мотив забвения ассоциируется у Блока с воительницей и там, где, казалось бы, контекст для этого совершенно неожиданный. Так, в стихотворении «Равенна» (май 1909) есть строки, посвященные гробнице Галлы Плацидии:
Безмолвны гробовые залы, Тенист и хладен их порог, Чтоб черный взор блаженной Галлы, Проснувшись, камня не прожег.
Военной брани и обиды Забыт и стерт кровавый след, Чтобы воскресший глас Плакиды Не пел страстей протекших лет. [Блок 1997-, III, 68]
Галла не была воительницей, но по ассоциации идей возникает цепочка: гробница царевны - «мертвый» сон и ожидаемое пробуждение - огонь (взора) - «военная брань»; в следующем стихотворении «Почиет в мире Теодорих...» (1909-1914) на ту же тему вечности и забвения мертвым сном уже спит возлюбленная; «Ответа нет моей мольбе! / <..> О, Галла! -страстию к тебе / Всегда взволнован и встревожен!» [Блок 1997-, III, 70]. А в примечаниях к стихотворению «Равенна» Блок писал: «Образ Галлы с лицом, то девически-нежным, то твердым и жестоким, почти как лицо легионера, неоднократно вставал перед художниками...» [Блок 1912, 192]. Здесь не только возникает архетипический для образа воительницы мотив мерцания женственных и мужественных черт, но она напрямую уподобляется воину (легионеру).
Возвращаясь к мотиву забвения, отметим, что затягивающей трясине страшного мира, в котором происходит забвение лирическим героем первоначального идеала, противопоставляется отказ от его соблазнов. Так, в стихотворении «Май жестокий с белыми ночами!..» (1908-1912), которое во многом выступает контрапунктом к «О, весна без конца и без краю...», брошенный героем вызов жизни и року, способствовавший его гибели, сменяется мольбой об освобождении от страстей, обращенной, по-видимому к той же героине-воительнице, спящей и ждущей его: «Пробудись! Пронзи меня мечами, / От страстей моих освободи!» [Блок 1997-, III, 112].
В черновике, как водится, отчетливей, ибо там появляются традиционные для Блока топосы, связанные с этим образом (весна, бой):
И Твои, Твои очарованья
Медленно сходящая Весна,
[И далекий лепет, бормотанье, топот, Конницы тяжелой знамена, И трубы военной завыванье]
В даль, где ты томишься в давнем сне...
[Блок 1997-, III, 394-395]
Пафос служения, возникающий в этом стихотворении («Но достойней за тяжелым плугом / В свежих росах поутру идти!» [Блок 1997-, III, 113]), начинает связываться с образом воительницы, с одной стороны, и «родины», с другой, - не случайно оно впервые было опубликовано под названием «Родине».
В стихотворении «Ты - буйный зов рогов призывных...» (1908-1913), хотя адресат нигде не определен как воительница или валькирия, создается ряд суггестирующих ее образов: звук рога, призывающий на бой (излюбленный Блоком вагнеровский мотив), метафоры бури, мотив одушевления к бою... И при этом героиня ассоциируется с родиной и возвращением на родину - ср. мнение А. Белого: «...живой миф личной жизни, созвучный с мифологемой “Кольца ”, параллезировался с мифом тогдашней России. Брунгильда - душа целой нации (спящей); Фафнер - правительство; интеллигенция, поднимавшая меч (интеллект) за народ (за Брунгильду), -герой, или-Зигфрид...» [Белый 2014, 192]:
Ты - буйный зов рогов призывных, Влекущий на неверный след, Ты - серый ветер рек разливных, Обманчивый болотный свет.
Люблю тебя, как посох - странник, Как воин - милую в бою,

Тебя провижу, как изгнанник Провидит родину свою.
Но лик твой мне незрим, неведом, Твоя непостижима власть: Ведя меня, как вождь, к победам, Испепеляешь ты, как страсть.
[Блок 1997-, III, 140]
Рядом тонких ассоциаций с этим стихотворением связано другое - «Он занесен - сей жезл железный...» (3 декабря 1914): в первую очередь бросаются в глаза сочетания «лик незрим» в первом и «зримей сияние лица» во втором. Кроме того, следует отметить мотивы полета среди бури, разверзнувшейся бездны, чудесного водительства:
Он занесен - сей жезл железный -Над нашей головой. И мы
Летим, летим над грозной бездной Среди сгущающейся тьмы.
Но чем полет неукротимей, Чем ближе веянье конца, Тем лучезарнее, тем зримей Сияние Ее Лица.
И сквозь круженье вихревое, Сынам отчаянья сквозя, Ведет, уводит в голубое Едва приметная стезя.
[Блок 1997-, III, 144]
Но, если в первом из двух стихотворений образ героини амбивалентен и ассоциируется как со светлым, спасительным, так и темным, губительным полюсами, то во втором он очевидно склоняется к лучезарному, божественному началу Во втором стихотворении при этом возникает эсхатологический мотив конца времен (не случайна отсылка к стиху 2:27 Откровения Иоанна Богослова в начальной строке) и «сгущающейся тьмы», напоминающий, в частности, о «Гибели богов». А мотив прозрения лучезарного лица героини заставляет вспомнить момент, когда Зигфрид снимает шлем с валькирии; ср. в либретто «Зигфрида»: «Светлые пряди / туч золотистых / лазурь небес каймят: / яркого солнца / радостный лик / светит в волнах облаков!..» [Вагнер 1911, 95]). Мотив «сияния лица» также сближает героиню с Богоматерью и с ангелом, что, как уже отмечалось в первой статье цикла, характерно для Блока. В частности, соединение черт воительницы / родины / Богоматери / ангела манифестировано в разделе
«Родина», в цикле «На поле Куликовом» (1908).
Во втором стихотворении цикла, «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали...», в третьей строфе «Говорит мне друг: “Остри свой меч, / Чтоб не даром биться с татарвою, / За святое дело мертвым лечь!”» [Блок 1997-, III, 171]. Но в черновике вместо этого сам герой говорит «светлой жене»: «И к земле склонившись головою, / Говорю жене: Точи свой меч» [Блок 1997-, III, 505]; т. е. героиня оказывается воительницей. В третьем стихотворении, «В ночь, когда Мамай залег с ордою...», героиня уже предстает Богоматерью, нисходящей к герою-воину:
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.
И когда наутро, тучей черной, Двинулась орда, Был в щите Твой лик нерукотворный Светел навсегда.
[Блок 1997-, III, 171-172]
Как писал Андрей Белый, «меняется образ видения Той, про Которую в прошлые годы сказал он: Она - приближается; в первом томе Она гласит ясной Софией <...>. В третьем томе стихов осеняет Ее новый образ: является Богоматерью, которую отражает щит светлый воина; щит этот - солнечный; видит Женой, облеченною в солнце, Ее» [Белый 1995, 400]. Но героиня здесь - не только Богоматерь, не только София, даже не только возлюбленная героя - князя-воина. В том же стихотворении есть строки «Слышал я Твой голос сердцем вещим / В криках лебедей» ([Блок 1997-, III, 171]. Как уже говорилось, лебеди ассоциируются с образом лебединой девы-валькирии.
В стихотворении четвертом, «Опять с вековою тоскою...», героиня вновь предстает лебединой девой, скрывшейся, улетевшей от героя («дивным дивом» - типичный сказочный и мифологический топос). Сам же герой уподоблен волку, что заставляет вспомнить не только «Слово о полку Игореве» и «Повесть о Куликовской битве», с которыми цикл связан сетью ассоциаций, но и Зигфрида из рода Вёльсунгов - Волчичей. Отметим также мотивы огня и вечного возвращения:
И я с вековою тоскою, Как волк под ущербной луной, Не знаю, что делать с собою, Куда мне лететь за тобой!
Я слушаю рокоты сечи И трубные крики татар, Я вижу над Русью далече Широкий и тихий пожар.
«Явись, мое дивное диво! Быть светлым меня научи! Вздымается конская грива... За ветром взывают мечи...» [Блок 1997-, III, 172]
Наконец, в пятом стихотворении цикла, «Опять над полем Куликовым...», встречаем ряд отсылок к вагнеровскому сюжету. Во-первых, эпиграф взят из стихотворения Вл. Соловьева «Дракон. Зигфриду». Во-вторых, строка «Доспех тяжел, как перед боем», как отмечалось, отсылает к сцене из 2-го акта «Валькирии»: «Как нынче / Тяжел доспех. - / Бейся вольно я, / Легко было б мне. / А этот бой / Давит грудь мою» [Вагнер 1900, 20]. Отметим, в-третьих, часто связывающиеся у Блока с образом валькирии и сюжетом о Зигфриде и Брунгильде мотивы вечного возвращения, припоминания, бури, грозы («Не слышно грома битвы чудной, / Не видно молньи боевой» [Блок 1997-, III, 173]), образ лебедя (причем в черновом наброске объединялись атрибуты героини первого и второго томов - царевны и воительницы: «[Плесканье кры(льев?)] / [Лебяжьих криков трубный звук,] / И вишеньем белым» [Блок 1997-, III, 509]).
Еще два стихотворения из цикла «Родина» обращаются к образу воительницы и используют знакомые нам мотивы: «Посещение» (1909-1910) и связанное с ним «Дым от костра струею сизой...» (август 1909). «Посещение» представляет собой стихотворный диалог двух «голосов» - женского и мужского, причем разыгрывается сюжет пробуждения героиней спящего героя и возвращения к нему памяти. Возникают мотивы анам-несиса (припоминания), вечного возвращения, закатного огня, и, в духе «вагнерианских» текстов второго тома, стихотворение заканчивается невозможностью спасения. По нашему мнению, в стихотворении присутствует ряд реминисценций «Кольца нибелунга».
Так, обычно читателей в тупик ставят строки «Я привык, чтоб над этой постелью / Наклонился лишь пристальный враг» [Блок 1997-, III, 179] -известна даже история с матерью поэта, отнесшей их на свой счет. Но в рамках «зигфридовского» сюжета это, несомненно, Миме, воспитавший Зигфрида с младенчества, - ср. в статье Блока «От Ибсена к Стриндбер-гу»: «“Слушай, сыночек Зигфрид, я ведь всегда от души тебя ненавидел и хочу срубить тебе голову”, - говорит глупый Миме Зигфриду» [Блок 1997-, VIII, 143]. Сон героя и забвение героини соотносятся с волшебным зельем Гутруны - см. черновой вариант: «Виноват ли и ты, мой любимый, / Что другая тебя увела?» [Блок 1997-, III, 525] - и статью «От
Ибсена к Стриндбергу», где с Зигфрида отчасти снимается вина, причем он уподобляется Христу: «.. .юноша Зигфрид вступает на свой последний, ясный и крестный, не омрачаемый даже изменой путь» [Блок 1997-, VIII, 144]. Брунгильда в «Гибели богов» тоже снимает вину с Зигфрида: «Всех чище был он, / Ветреник мой! <...>/ Глава богов! / За подвиг лучший его, / Так желанный тобой, / Сам и обрек / Смелого ты / На жестокую, раннюю смерть. / Мне он изменить / Обречен был, / Чтоб знанье жене возвратить!» [Вагнер 1904, 37-38]. Не вполне понятный вне контекста и связанный с мотивом воспоминания образ перстня («Лишь рубин раскаленный из пепла / Мой обугленный лик опалит!»), отсылающий также к перстню вампи-рического героя в «Песни Ада» и восьмом стихотворении цикла «Черная кровь», может соотноситься с кольцом нибелунга - см. последнюю сцену Зигфрида в «Гибели богов» (здесь и мотив нарушенной клятвы).
В черновиках стихотворения встречаем образ зловещих воронов («Виноваты ли мы, что нам снились / Непонятные долгие сны, / Что зловещие птицы носились, / Глухо каркая...» [Блок 1997-, III, 526]), напоминающий о воронах Вотана у Вагнера - в сцене смерти Зигфрида: «Два ворона вылетают из куста; кружатся около Зигфрида и улетают» [Вагнер 1904, 34]; «Хаген: Ты понял ли / Этих воронов крик? (Зигфрид быстро поднимается и смотрит вслед воронам, повернувшись к Хагену спиною). Мщенье - был их завет! (Он вонзает копье в спину Зигфрида)» [Вагнер 1904, 34-35]; в предсмертной реплике Брунгильды: «Воронов черных / Слышу твоих я / И с вестью роковою / Шлю их обоих домой» [Вагнер 1904, 38]. В черновиках стихотворения героиня просит героя: «Встань из пепла» [Блок 1997-, III, 527], что обращает нас к погребальному костру Зигфрида и Брунгильды. Говорится не просто о сне и забвении героя, но о его могиле, т. е. смертном сне, в котором, по-видимому отчасти виновна и героиня (как и в «Кольце нибелунга»).
Отзвуки вины героини - мотив, характерный для Блока третьего тома, -весьма отчетливы в черновиках («Виновата ли я, что гонима / Снежной вьюгой, далеко ушла?» [Блок 1997-, III, 525]). Как и «Гибель богов», заканчивается стихотворение мрачно - как в окончательной редакции, так и в черновиках («Я не ждал тебя, я не умею / Я не знаю, я верить не смею, / Что ты можешь меня возвратить!» [Блок 1997-, III, 527]). При этом в черновиках сохраняется и типичный для первого тома образ огня (зари) на горе - образ, который, как мы постарались показать, тоже соотносится с историей Зигфрида и Брунгильды:
Если ж старостью сменится младость
Как и встарь над зубчатой горой Для тебя моя тихая радость Разольется вечерней зарей.
[Блок 1997-, III, 526]
Стихотворение «Дым от костра струею сизой...» связано с «Посещением» необычным образом «крестов» из елей: ср. «То не ели, не тонкие 206
ели / На закате подъемлют кресты» [Блок 1997-, III, 178] в «Посещении» и «И ель крестом, крестом багряным / Кладет на даль воздушный крест...» [Блок 1997-, III, 175] здесь, а также мотивом зари. Но в этом стихотворении герой бодрствует и - как будто предлагается альтернативный сюжет, что часто бывает у Блока в случае «парных» текстов, - несет спасение героине, хотя оно предстает сомнительным и оба персонажа отмечены тлетворным влиянием «страшного мира». При этом падшая героиня изначально принадлежит «небесной глубине», а образ «кольца рук», «ограды» вокруг нее рядом с «алым кругом» вечерней зари создает ассоциации с оградой огня вокруг Брунгильды. Не будем при этом забывать, что стихотворение входит в цикл «Родина» и его героиня должна одновременно ассоциироваться с Русью. В наиболее полном и отчетливом виде весь рассматриваемый комплекс мотивов отразился в пьесе «Песня Судьбы». Но это уже тема для другой статьи.
В завершение же отметим, что, хотя, как мы постарались показать, в креативной рецепции образа воительницы Блоком была своя эволюция, на примере которой можно продемонстрировать вектор творческой эволюции Блока в целом, константы здесь сильнее. Воительница у Блока (и, в частности, Брунгильда) - это вариант, софийной героини, так что к ней прикрепляются мотивы, связанные у Блока и с другими ипостасями последней, а важнейшими источниками остаются гностицизм и соловьев-ство; ими отчетливо окрашивается и блоковское вагнерианство. Подобно тому как Д.М. Магомедова доказала, что идиллическая и демоническая героини Блока представляют собой двойников, или, точнее, две стадии пути Софии (в славе и в падении) [Магомедова 1997], мы утверждаем, что спящая царевна, персонаж пассивный, и воительница, персонаж активный, тоже двойники, тоже две ипостаси одной сущности. Глубинной связью двух вариаций образа героини у Блока объясняется тот факт, что воительница столь часто приобретает у него черты Девы Марии и ангела.
Связанные с воительницей мотивы, заданные в ранней лирике (огонь на горе, пробуждение спящей, священная весна, прозрение на пороге смерти и пр.), не исчезают впоследствии, но остаются в «художественном обороте» наряду с возникающими новыми (среди которых наиболее значительны мотивы измены и смерти героя во втором томе, забвения в третьем). С этим соединяются - особенно в начале творческого пути Блока -некоторые архетипические, мифологические черты и мотивы, свойственные такого рода героине (участие в битве и вызов героя на бой; бешеная скачка или полет на коне; независимость поведения, в том числе в выборе возлюбленного; мотив любви-борьбы и / или любви-вражды; ассоциации с бурей, грозой, молнией; причастность божественному). Наряду с этим нельзя не отметить, что Блок почти отказывается от такой существенной изначальной черты образа воительницы, как определенное «мужеподо-бие» (когда типичным мотивом оказывается, например, «неузнание» девы в облачении воина, что есть даже у Вагнера), а также от какой бы то ни было активности героини вне сюжета с участием избранного героя.
Интересно, что в типологическом отношении основная линия блоковской креативной рецепции соединяет две сюжетные возможности [Зусе-ва-Озкан 2016], казалось бы, противоположные: с одной стороны, происходит испытание героями силы в широком смысле, причем (пусть и в виде отдаленного результата) оно сопровождается гибелью либо одного, либо обоих персонажей, а с другой, происходит отказ персонажей от испытания силы, и поединок в качестве основного мотива замещается любовным преследованием, эротическим поиском. Благодаря тому, что у Блока главной сюжетной коллизией является гностическая коллизия спасения, пробуждения одного персонажа другим, причем статус «спасающего» и «спасаемого» оказывается меняющимся, нестабильным, осциллирующим (как и факт осуществления / неосуществления интенции спасения), эти сюжетные возможности чередуются, мерцают, взаимоотражаются. Таким образом, образ воительницы и связанный с ней сюжетно-мотивный комплекс получают у Блока крайне своеобразную и сложную интерпретацию.
Список литературы "И поднимет щит девица…": дева-воительница в лирике А. Блока (статья вторая)
- Белый А. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. М., 1995.
- Белый А. Начало века. Берлинская редакция (1923). СПб., 2014.
- Блок А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1997-.
- Блок А. Собрание стихотворений. Кн. 3: Снежная ночь (1907-1910). М., 1912.
- Брюсов В. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 1973.
- Вагнер Р. Валькирия / пер. И. Тюменева. Изд. 5-е. М., [1900].
- Вагнер Р. Гибель богов / пер. И. Тюменева. Изд. 2-е. М., 1904.
- Вагнер Р. Зигфрид / пер. И. Тюменева. Изд. 3-е. М., 1905.
- Вагнер Р. Зигфрид. Второй день трилогии "Кольцо Нибелунга" / пер. В. Коломийцева. М., 1911.
- Гвоздецкая Н.Ю. Валькирический миф в женских образах "Старшей Эдды" // Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. М., 2005. С. 78-103.
- Гвоздецкая Н.Ю. Девы-лебеди и валькирии в древнеисландской мифоэпической традиции // Атлантика: Записки по исторической поэтике. Вып. IX. М., 2011. С. 71-88.
- Грякалова Н.Ю. О фольклорных истоках поэтической образности Блока // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1987. С. 58-68.
- Зусева-Озкан В.Б. Дева-воительница в литературе русского модернизма. Брадаманта у Л. Ариосто и Браманта у М. Кузмина // Русская литература. 2016. № 1. C. 124-133.
- Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997.
- Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975.
- Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.