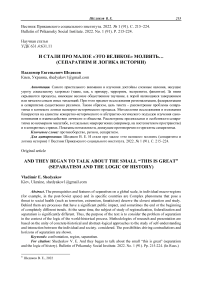И стали про малое «это великое» молвить (сепаратизм и логика истории)
Автор: Шедяков В. Е.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 1 (91), 2022 года.
Бесплатный доступ
Самого пристального внимания и изучения достойны сложные явления, несущие угрозу социальному здоровью (такие, как, к примеру, терроризм, экстремизм, фанатизм). За ними скрываются процессы, имеющие весомое общественное звучание, а порой являющиеся завершением или началом совсем иных тенденций. При этом предмет исследования регионализации, федерализации и сепаратизма существенно различен. Таким образом, цель текста – рассмотрение проблемы сепаратизма в контексте логики всемирно-исторического процесса. Методологии исследования и изложения базируются на единстве конкретно-исторического и абстрактно-логического подходов изучения самопонимания и взаимодействия личности и общества. Рассмотрены предпосылки и особенности сепаратизма во всемирном масштабе, в отдельных макрорегионах (например, на постсоветском пространстве) и в конкретных странах. Показаны возможности, движущие противоречия и горизонты сепаратизма.
Противоборство, регион, сепаратизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14126494
IDR: 14126494 | УДК: 631.4:631.11
Текст научной статьи И стали про малое «это великое» молвить (сепаратизм и логика истории)
И стали князья про малое «это великое» молвить и сами себе беды ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую … Слово о полку Игореве Сепаратизм, как всякий живой процесс, сложное и противоречивое явление, получающее разное историческое поле, проявления и силу в разные периоды [1–3]. Очевидно, терроризм и экстремизм – это прежде всего орудие конфронтации, фанатизм – характеристика психического состояния. Децентрализация, федерализация, регионализация – процессы развития административно-территориального устройства. Все они могут служить разным субъективным интересам и объективным историческим целям, иметь разное содержание [4–9]. В разном историческом контексте и формах они то глушат, то разжигают сепаратизм, то есть он не сводим однозначно к чему-то из них.
При этом многие из факторов сепаратизма формируются в процессе исторического разграничения государств и фиксируют противоречия между правом на самоопределение, национально- (и/или территориально-) освободительного движения, с одной стороны, и нерушимости границ – с другой. Вместе с тем непризнанные государства, над- и внегосударствен-ные объединения (например, по принципу религиозной самоидентификации) могут порой приобретать мощь, игнорирование которой само несет дополнительные риски. Зачастую государства одновременно позволяют себе бороться с сепаратизмом по отношению к себе и союзникам (когда самому понятию сепаратизма заведомо придается однозначно отрицательная окраска) и способствовать ему в странах-противниках и конкурентах (порой применяя при этом иные обозначения и акцентируя гуманитарное измерение). Между тем, разумеется, попытки игнорирования вовсе не уничтожают явления. Вместе с тем наряду с классическим путем, предполагающим общность исторической судьбы и социального наследия, при котором «сбиваются», например, из отдельных сначала племен, а затем населения территорий нации и происходит самоотнесение к тому или иному народу, могут появляться и иные модели развития событий. Скажем, заморские колониальные владения (зачастую с геноцидом аборигенов) начинают отстаивать собственные интересы и объявлять о самоидентификации на искусственно привнесенной основе. Или же часть народа длительное время оказывается на территории чужого государства, веками искусственно воспитываясь в духе противостояния материнскому культурно-цивилизационному ядру [10–14]. При этом отторжение может не только основываться на материальных интересах, но и подпитываться религиозной, этнической, социальной, идеологической и т. д. рознью – или их разнообразными сочетаниями. Часть фиктивных государств (например, Маньчжоу-Го) была сметена ходом исторических событий, другая (те же североамериканские колонии поселенцев) – нашла возможности существования и без исторических корней, и с разномастными традициями, и при осложненном генетическом материале…. Так, очевидно значение конфликтов, индивидуализма и разъединенности, а значит, и юридической казуистики в романо-германском ареале. При этом ситуация с насильно расчлененным по постсоветским государственным образованиям русским народом вообще кардинально отличается от содержания общих процессов (хотя известны разделенные государственными границами баски, курды, ирландцы и т. д., что усиливает драматизм их истории). Как известно, и представители радикальных взглядов Прибалтики требовали лишь республиканского хозрасчета. Независимость «свалилась» в борьбе лидеров за власть – причем в рамках прежде формальных и выделенных в специфических условиях Гражданской войны и для решения задач того времени межреспубликанских административных границ (здесь, в свою очередь, вспоминаются соборность и со-творчество, проявляющие свою силу в развертывании Руси и России). Безусловно, можно видеть определенный смысл, свою «правду» в преследовании приоритета каждого из уровней носителей интересов («всё действительное разумно»), но весомость подходов различна.
В числе объективных предпосылок актуализации угроз сепаратизма выделяются общемировые – многоуровневое усиление черт региональности при парадигмальном переходе ойкумены, когда вызревают не получившие своего разрешения противоречия (Ольстер и Шотландия, Страна басков и Каталония и т. д.). Хаос и кризис расширяют коридор возможностей, сужающийся при выработке обновленного порядка. Как известно, аномия характеризует состояние общества, где отсутствуют или неустойчивы социальные и нравственные (ценностно-смысловые) императивы. Циклическая же сукцессия имеет отличительную черту – в недрах сообщества зреют предпосылки для отката сообщества к более примитивному типу, антиинтеллектуализму и общей деградации. Вместе с тем сепаратизм может быть связан и с усилением роли децентрации [15–18].
Есть яркие особенности, отличающие каждый из конкретных случаев, но порой закрепляемые уже в виде закономерностей дальнейшим ходом истории . Формирование Западом в центре Европы косовского прецедента еще раз показало, с какой легкостью он осуществляет в своих узкоэгоистических целях поддержку сепаратизма. Запад подтвердил стабильность своего прозвища «фабрики по производству лжи», заполняя суетой отсутствие положительного смысла и развития. Созданные Западом марионеточные режимы, естественно, лишены права самостоятельного выдвижения целей и выбора средств. За это «свой сукин сын» выслуживает возможность для реальной коррупции, на которую фактически готовы смотреть «сквозь пальцы».
Наконец, существуют и характеристики, свойственные отдельным культурноцивилизационным мирам . Например, динамике трансформаций постсоветского пространства. Как известно, анализируя опасности разлома Большой России (Российской империи), И. А. Ильин констатировал: «Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным распадом, процессом разложения, брожения, гниения – всеобщего заражения. В нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся Вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Это перерастание будет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира (европейские, азиатские и американские) будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои стратегические расчеты в нововозникшие малые государства... Россия превратится в гигантские Балканы, в вечный источник войн, в великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран (ин-фильтранты, оккупанты, агитаторы, разведчики, революционные спекулянты и миссионеры) – все уголовные, политические и конфессиональные авантюристы Вселенной. Расчлененная Россия станет неизлечимою язвою мира» [19, с. 3–4].
Подобно когда-то боровшимся с «единой и неделимой» «красным» революционерам республиканские руководители в СССР в борьбе за власть с общесоюзным центром в конъюнктурных целях закономерно увидели свою опору и сделали ставку на сепаратистские националистические идеологию и движения. Как известно, Советский Союз обладал достаточными социально-политической устойчивостью, военно-техническим потенциалом. Доверие к руководству в ситуации дезорганизации и беспощадной схватки за власть в верхушке стало фактором сохранения бездействия. Акцент внешних противников начал заметно делаться на идеологическом, нравственно-духовном разложении и, соответственно, информационном давлении. Расхожие лозунги о необходимости контрпропаганды и формальное перемещение замов секретарей по идеологии партийных комитетов на вторую позицию с третьей в партийной и комсомольской иерархии при идеологической дезориентации не спасали от массированного информационного воздействия.
Это давление отнюдь не прекратилось с раздиранием СССР. Более того, дальнейшая экспансия раковых метастаз НАТО и ЕС при самороспуске силы стратегического сдерживания ОВД и СЭВ ускорила глобальную деградацию и поставило человечество на грань самоуничтожения. Наибольшие проявления это имело на национальных окраинах без твердых оснований в государственной традиции, где источником реальной власти была не воля народа, а интересы внешних сил (что, в частности, и проявлялось не только в распродаже своим истеблишментом по малым ценам народного достояния и природных ископаемых, но и превращении в территории прокси-столкновений). Постсоветское социокультурное пространство в конце XX века попыталось системно и полно не просто использовать элементы так называемой «вестернизации», а войти в мир Запада, отказавшись от своей исторической судьбы. Между тем за переделом собственности именно идеологический, нравственно-духовный фактор роковым образом недооценивался рационально мыслящими политиками и чиновниками. Многовековая общая история, переплетение родственных связей, крепость экономико-технологических связей и энергетическая зависимость казались определяющими. Таким образом, игнорировалось ускоренное и эшелонированное насыщение постсоветского пространства иноагентами, свобода рук для пропагандистских фейков глобальных СМИ, тотальное воздействие зарубежных некоммерческих организаций и транснациональных корпораций. Готовность к потреблению «пропагандистского фаст-фуда» стала важным элементом навязывания прокрустова ложа стереотипов поведения и шаблонов мышления. В результате именно примат эрозии ценностей и запуск отрицательного отбора в организационно-управленческом аппарате, обслуживающих идеологических подсистемах (образовании, науке, искусстве, культуре и т. п.) стал основой ускоренной деградации и дешевой распродажи природных ископаемых, вековых достижений и приоритетных разработок всего советского народа. Западом мотивировалось натравливание друг на друга частей разделенного народа. Со становлением же системы самозащиты человечества, усилением альтернативных независимых мировых центров силы и их притягательности для ойкумены яростная агрессия Запада стала предсказуемой реакцией на нежелание всё большего числа людей оставаться в поле подчинения фаворитам прежнего миропорядка и приятных им иллюзий.
В этой ситуации сепаратизм относительно новообразований постсоветского пространства становится не только формой самозащиты, но и тенденцией к интеграции по отношению ко всему культурно-цивилизационному миру как целостности [20; 21]. Однако в случае упрощенного понимания интересов и диапазон сепаратизма так же редуцируется. Между тем необходимо различать сепаратизм относительно современного состояния государственности (отражающего процессы политической конъюнктуры) и всего культурно-цивилизационного мира .
Соответственно, бережное отношение, например, к истории, наследию и развитию Баварии не должно подрывать интересы Германии, или уважение к местным традициям Нормандии, Бургундии или Шампани подрывать развитие Франции. Вместе с тем каждый культурно-цивилизационный мир вырабатывает свои механизмы единства и баланса прав и свобод регионов и населения. И порой сепаратизм – протест против другого сепаратизма (усиление народного движения в Шотландии после выхода Британии из ЕС).
Исторические циклы включают колебания в диапазоне от панконтинентального единства к ставке на концентрацию собственных сил культурно-ценностного мира. В частности, естественная миссия панконтинентализма – это и сдерживание очередных претендентов на статус мирового гегемона (будь то наполеоновская Франция, гитлеровская Германия или англо-саксонские элиты), и спасение малых и развивающихся народов (в том числе разрушение систем колониализма и неоколониализма). Характерно, что уход
России во внутренние дела всегда оборачивался таким сломом мирового баланса, который напрямую подготавливал всемирные бойни. Очевидно, что состояние и динамика как внутренних, так и внешних факторов сепаратизма в пространстве экс-СЭВ, тем более – бывших республик СССР и уж, разумеется, на территориях проживания русского народа зависит практически исключительно от действий России. Соответственно, ситуация на постсоветском пространстве во многом – проекция внутреннего состояния России, ее государственности и общества. Запад, естественно, пытается сдвинуть в свою пользу границу между культурно-цивилизационными мирами – в той степени и теми методами, которые позволяет ему РФ. То же касается и различных извращений (от нацизма до сексуальных патологий) как фактора общественной жизни стран постсоветского пространства. Да и исследование всех стадий проходящих конфликтов показало, что рассуждения о «победах» и «успехах» неонацизма нуждаются в серьезной корректировке в сторону признания экстремистов и их методов отнюдь не решающим в числе факторов, обусловивших временный успех русофобских сил. Отрыв другими «акторами» бывших национальных республик от ядра культурно-цивилизационного мира с перетягиванием на свои орбиты – естественная реакция. Разнообразные субъекты международных процессов входят в геостратегические «пустоты» – когда Россия уходит оттуда, не удерживая своего пространства. Соответственно, при нынешнем соотношении сил субъектов ситуация в Евразии безраздельно зависит от поведения РФ. При этом укрепление внутреннего единства и международного положения неотъемлемо от защиты своей культуры и ее носителей в мире, прежде всего – на территории пост-СССР. Понятна боль от геополитической катастрофы расчленения СССР, когда прежние узлы связи республик стали болевыми точками: переплетения взаимных интересов при разрыве «по живому», осуществленному с ориентиром на чисто формально-административные границы, не могут не кровоточить, а отрубленные части карябают друг друга, нанося дополнительные раны. Так, узлы взаимопереплетений могут обеспечивать как заинтересованность, кооперацию, дружеские связи (при единстве и целостности), так и разрушения, ожесточения, склоки (при разрыве). Это касается уровней и реального, и символического : как разорвать и «приватизировать» наследие Древней Руси, «отспорить», чей она родоначальник? А величие прежних обретений и деяний, которыми неразрывно связаны осколки единого мира?
Понимание логики истории неизбежно приводит к осознанию необходимости кардинальных трансформаций и места сепаратизма в происходящем. Их содержание, задачи, а стало быть, избираемый инструментарий, ближайшие и дальнейшие последствия могут существенно разниться. Повестка дня всё заметнее создается противоборством между, с одной стороны, странами справедливости и развития и, с другой – испытывающими нарастающее народное сопротивление фаворитами уходящего общественного порядка и мироустройства, базирующегося на насаждении удобных США режимов под флагом «демократии». В момент перехода возрастает роль случайности и слабых, но точных воздействий. Попытки эскалации давления военными, политико-дипломатическими, экономическими, информационными и другими средствами, поддержки и использования «пятой колонны», продвижения некоммерческих организаций и транснациональных корпораций создают ситуации конфликта, приближая «Большую войну» (в том числе и злонамеренно, и случайно). Вместе с тем ойкумена создала все предпосылки и возможности для глубокой гуманизации общественных отношений, более бережного отношения к человеку и природе, формационного, этапного развития с преодолением материальной доминанты жизнедеятельности. Акцентирование животного воспроизводства снимается, «уходит в основание» собственно человеческого духовного развития. Существо происходящих трансформаций общественной среды, перемен связано и с перерастанием доминантности, стадиальности в процессы социального создания и воссоздания, творчества и его тиражирования, которые ложатся в основание духовного развития, обеспечивающего новые формы традициям на базе ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров. Если страны, находящиеся в ядре своего культурно-цивилизационного мира, выявили диапазон своих поисков достаточно полно, определившись с предпочтениями и ограничениями, то возможность значимых для всего человечества находок возрастает на грани контактов, в зонах столкновений и диффузии культурно-цивилизационных миров. И среди мириад больших и малых развилок водоразделом выступает то, в чьих интересах будут осуществлены преобразования: народов ойкумены или же горсточки эксплуататоров / манипуляторов.
Безусловно, сепаратизм как насильственное расчленение единого организма необходимо отграничивать от регионализации и федеративного начала как направлений мягкого сочетания различных элементов общего целого. А вот боровшиеся за власть «оппозиционные» (в том числе радикальные) движения для расшатывания общественного порядка часто искали опору в сепаратистских настроениях. При этом получившие государственность либо по воле вождей СССР, либо как «уродливые порождения Версальской системы» часто категорически не приемлют идущей «в комплекте» ответственности: получить «на откуп» население, территорию и наследство – это да; постоянная готовность к роли приживалки и злоупотребление русофобией, беззастенчивым попрошайничеством и ксенофобией – тоже да. А вот подчинять свои действия интересам народа или же выстраивать долгосрочные стратегии развития доставшихся им стран – это увольте. Впрочем, ведь и чиновники Евросоюза тоже часто демонстрируют пренебрежение интересами народов и прямо играют против своих стран. В паразитарных же общественных системах вообще семейственность и кумовство становятся неотъемлемой характеристикой для вхождения в ту или иную властную вертикаль, а участие в эскалаторе коррупции и ксенофобии – условием успешного карьерного продвижения.
Между тем формирование «промежуточных» государств в конкретных условиях может обеспечить среду защиты ядер культурно-цивилизационных миров, позволить маневрировать, избегая навязываемой ложной «вилки»: глухая изоляция – или же игра по чужим правилам во враждебном информационном ландшафте. Как известно, если дьявол предлагает выбирать из содержимого в двух зажатых кулаках, то не стоит обнадеживаться: гадость в обоих и надо реализовывать свою собственную стратегию. Например, знаменитая Дальневосточная республика сыграла свою роль буфера до укрепления центральной советской власти.
Как демонстрирует исторический опыт, сепаратизм – естественный союзник и внешней интервенции: и во времена Смутного времени, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную сторонники «единой и неделимой» быстро «выбраковывались» оккупантами. От лозунга «отделимся – заживем» перешли к девизу «живем всё хуже, зато отделились». Как, собственно, и с искушением якобы резкого роста стандартов жизни, заработка и пенсии в случае евроатлантической интеграции. Что на деле удовлетворяет лишь запановавшую и подкармливаемую Западом верхушку да нацистов (очевидно, отнюдь не националистов, поскольку нисколько не пекутся о коренных интересах народа, а открыто холуйствуют перед Западом), тогда как уровень и качество жизни народа, его возможности вполне закономерно тотально обвалились. В частности, прозападные системы образования и медицины откровенно снижают количество и качество народного потенциала. По возможности мирными средствами и щадящими мерами не допускать превращения народноосвободительных движений в очаги напряженности – серьезная задача, осложняемая посылами двойных стандартов, когда, в зависимости от своих интересов, абсолютизируются то права меньшинств (в том числе на самоопределение), то принцип нерушимости границ.
Разумеется, причины и история всякого прецедента сепаратизма должны рассматриваться по отдельности, но вовсе не изолированно друг от друга. Возврат к подобию феодальной раздробленности то происходит при желании навести / удержать порядок в условиях смуты (см. огромное количество разновеликих «республик» в Гражданскую войну), то насаждается оккупантами: «разделяй и властвуй». Вместе с тем кроме защиты своих «уделов» есть и мотив растерянности, обиды на то, что их оставили один на один с проблемами в 90е: порой мечты страшны исполнением. А при этом идет и пополнение вооруженных сил, полиции, национальной гвардии, так называемых «антикоррупционных» институтов и ветвей власти за счет массового введения в них экстремистов-сепаратистов (часто – с уголовным прошлым) с неонацистским и реваншистским мировоззрением, в том числе – активно участвовавших в свержении законной власти, захватах ее органов, силовых структур.
На макроуровне социальных отношений всё отчетливее тот факт, что полиструктура культурно-цивилизационных миров, основанная на общеприемлемых нормативах отношений, а вовсе не блок тождественных атомов-элементов, подогнанных «архитекторами событий» под подразумеваемую ими цель, – картина действительности. Очевидно, старые лидеры заинтересованы в сохранении социального порядка, деградирующая часть периферии выступает объектом манипулирования, а не субъектом истории. Культурная и историческая разнородность мира возросла. Страны с «закрытыми» социумами не только конкурируют «на равных», но и во многом сами навязывают критерии прогресса. Уже переформатирование открывает возможность разнообразия комбинаций социальных институтов. Более того, успешное использование особенностей логики истории удается скорее организациям и государствам, обрастающим сонмом различных плохо структурируемых, но эффективных образований. Одновременно глобализация европейских норм и институтов происходит в условиях, когда Европа сама меняется коренным образом. При этом стоящие перед человечеством проблемы вовсе не привели к осознанному единству интересов и действий. Реальная культурная и историческая разнородность возросла, а жизнеспособность каждого культурно-цивилизационного мира определяется готовностью отстаивать свою идентичность и самобытность. Всё активнее заявляет о себе процесс изменений, предусматривающих сосуществование, пересечение и резонирование различных тенденций развития, среди которых на сегодня ни одна не может претендовать на исключительное значение, что позволяет, не испытывая вреда, абстрагироваться от других. Глобализация же вызывает существенную трансформацию личности (на ментальном, психологическом уровнях), а потому население каждого культурно-цивилизационного мира нуждается в разработке и последовательном осуществлении системы эффективной защиты от тех процессов, которые способны нанести ущерб хозяйственным комплексам и сознанию иных культурно-цивилизационных миров. Миссия создания альтернативного общественного идеала и его воплощения была принята на себя рядом стран, сумевших на этой основе добиться весомых успехов. Новообразованные же из советских республик государства сейчас вынуждены определяться, идти ли в кильватере Запада, других, не ими формируемых моделей общежития (имитационные социальные формы и исторический путь имитационности) - или же возвращаться к собственной идентичности с участием в укреплении целостности своего культурно-цивилизационного мира (инновационное развитие). В свою очередь, успех кардинального переформатирования общества и политико-экономического уклада североамериканских штатов во многом зависит от готовности отказаться от догматически искаженного восприятия действительности, перейдя от попыток диктата и насаждения удобных для себя режимов к взаимодействию равноправных партнеров.
Таким образом, рассмотрение сепаратизма сквозь призму стереотипов фаворитов прежнего миропорядка как при акцентировании обеспечения их узкоэгоистических интересов, так и при деконструкции до формально гуманистических слоганов недостаточно. Под тем и другим четко вырисовывается конкуренция образов будущего и в мироустройстве, и в отношениях личности и общества. А потенциал сепаратизма может обрести угрожающие черты, сыграв роковую роль в условиях активных трансформаций; «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет…» (Евангелие от Матфея 12:25). Одновременно появление и культивирование грантодающими организациями многих альтернативных центров принятия и реализации решений (в том числе инспирированных из-за рубежа) – путь к разрушению народа. Марионетки «цветных путчей» становятся палачами государств, на которых паразитируют. Разрушение вертикали власти – одно из ведущих направлений хаотизации социально-политического пространства. Если активизация региональной созидательной активности повышает и реализует потенциал развития, то сепаратизм как сторона многовластия ликвидирует справедливость в распределении возможностей достойной жизни и творчества.
Список литературы И стали про малое «это великое» молвить (сепаратизм и логика истории)
- Яшлавский А. Э. Сепаратизм // Федерализм: Энциклопедия / отв. ред. К. С. Гаджиев. М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 472–475.
- Крылов А. Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития. М.: Знание, 1990. 64 c.
- Пузырев К. С. Сепаратизм как политическое явление // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2010. Вып. 3 (7). С. 133–143.
- Ремнев А. В. Призрак сепаратизма // Родина. 2000. № 5. С. 10–17.
- Баранов А. В. Сепаратизм в современном мире: политико-территориальный аспект // Южно-российский журнал социальных наук. 2005. № 3. С. 107–123.
- Соболев В. М. Современный сепаратизм // Бизнес Информ. 1995. № 19-20 (143-144). С. 10–14.
- Соловьев Е. А. Сепаратизм и современная международная политика // Бизнес Информ. 1995. № 9-10 (133-134). С. 8–10.
- Шедяков В. Е. Всемирная децентрация и тенденции сепаратизма сквозь призму постглобализма // Politicus. 2016. Вип. 3. С. 100–103.
- Шедяков В. Е. Постглобальный сепаратизм в контексте задач новой модернизации // Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Proceed. of Intern. Scient.-Pract. Conf. Kaunas, 2016. P. 45–48.
- Гумилев Л. Н., Панченко А. М. Чтобы свеча не погасла: Диалог. Л.: Сов. писатель, 1990. 128 с.
- Лурье C., Казарян Л. Принципы организации геополитического пространства // Общественные науки и современность. 1994. № 4. С. 85–96.
- Wallerstein I. World-Systems Analysis. An Introduction. Durham and London: Duke University Press, 2004. 110 p.
- Цымбурский В. А. Народы между цивилизациями // Pro et contra. 1997. Т. 2, № 3. С. 154–184.
- Соловьев Е. А. Из истории сепаратизма: Соединенные Штаты Америки (начало) // Бизнес Информ. 1995. № 21-22 (145-146). С. 9–10.
- Криворучко А. А. Конфликт в Косово как составная часть общего кризиса в бывшей Югославии: история вопроса // Вестник МГЛУ. 2015. № 26. С. 122–129.
- Шедяков В. Экономическая логика косовских событий // Официальные ведомости. 1999. № 21. 17–23 мая. С. 16.
- Шедяков В. Е. Децентрализация и экономико-организационные предпосылки сепаратизма в контексте нарастания постглобализма в международных отношениях // Регіональна економіка та управління. 2017. № 1 (14). С. 98–102.
- Шедяков В. Е. Политико-экономическое измерение сепаратизма в постглобальном мире // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 4 (10). С. 12–18.
- Ильин И. А. Что сулит миру расчленение России. М.: Пересвет, 1992. 62 с.
- Шедяков В. Е. Экономическому союзу – быть! // Время. 1993. № 123 (13758). 9 сент. С. 2.
- Владимир Шедяков: «Взять на себя ответственность за судьбу Востока Украины. Эта задача нам под силу» // Капитал-экспресс. 1994. № 9 (53). С. 2.