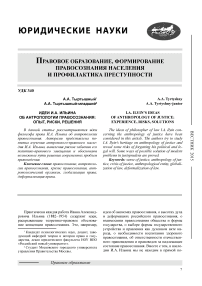Идеи И.А. Ильина об антропологии правосознания: опыт, риски, решения
Автор: Тыртышный Алексей Александрович
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Правовое образование, формирование правосознания населения и профилактика преступности
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются идеи философа права И.А. Ильина об антропологии правосознания. Авторами представлена попытка изучения антрополого-правового наследия И.А. Ильина, выявления рисков забвения его политико-правового завещания и обоснованы возможные пути решения современных проблем правоведения.
Правосознание, антропология правосознания, кризис правосознания, антропологический организм, глобализация права, деформализация права
Короткий адрес: https://sciup.org/148161273
IDR: 148161273 | УДК: 340
Текст научной статьи Идеи И.А. Ильина об антропологии правосознания: опыт, риски, решения
ВЕСТНИК 2015
Практически каждая работа Ивана Александровича Ильина (1882–1954) содержит идеи, раскрывающие теоретико-правовое обоснование концепции правосознания. Это, например, идеи об аксиомах правосознания, о высотах духа и деформациях российского правосознания, о взаимосвязи правосознания общества и формы государства, о выборе формы государственного устройства и правления как духовном акте народа, о необходимости воспитания здорового правосознания, об ответственности отечественного правоведения и правоведов за надлежащее состояние правосознания. Вместе с тем, в наследии И.А. Ильина мы не находим в прямой по-
ВЕСТНИК 2015
становке упоминания, а тем более расшифровки термина «антропология правосознания». В связи с этим представляется оправданной попытка изучения его наследия, выявления рисков забвения политико-правового завещания И.А. Ильина и обоснования возможных путей решения современных проблем юридической науки и образования именно в контексте идеи антропологии правосознания
Генезис идей антропологии правосознания в творчестве Ильина, на наш взгляд, наиболее наглядно прослеживается в тесной взаимосвязи с его биографией и событиями в жизни России и мира начала ХХ века. Анализ биографии И.А. Ильина, его происхождения и становления его как ученого позволяет сделать следующие выводы.
Ильин получил блестящее воспитание в семье, где господствовали образцы русской и немецкой культуры, давшие удивительное сочетание отточенной логики, с одной стороны, и глубины духовного познания проблем государства и права. Университетское образование в стенах юридического факультета Московского университета проходило под влиянием блестящей плеяды правоведов конца XIX – начала XX веков: Новгородцева, Муромцева, Таганцева [1; 2; 3]. Ильин, образуясь как правовед, имел возможность формировать свое научное мировоззрение под влиянием смены эпох в теории права и государства. В этот период в российском правоведении утверждались идеи позитивизма, бурлили формировавшиеся социальные и психологические концепции права (Г. Тард, Э. Дюркгейм, З. Фрейд, Л. Петражицкий), зарождались авангардистские и модернистские модели построения нового государства и права в России (М. Рейснер) и в мире. Наконец, богатый личный религиозный, духовный и политический опыт оказал решающее влияние на формирование научной парадигмы антропологии права и правосознания в творчестве И.А. Ильина.
На наш взгляд, важнейшей мировоззренческой и методологической основой антропологической концепции права и правосознания И.А. Ильина и, безусловно, настоящей научной сенсацией стала защита им в 1918 году диссертации на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Позже, изданная в виде двухтомника, эта работа заложила основы совершенно новой для ХХ века концепции правосознания, которую, на наш взгляд, можно рассматривать именно как антропологическую. Сам замысел и соответствующая ему структура диссертационной работы Ильина раскрывают идею единства двух природ человека: Божественной и собственно человеческой. В содержании второго тома диссертации («Учение о человеке») Ильин раскрывает идеи, безусловно формирующие правосознание человека: свобода, воля, право, мораль, нравственность, взаимосвязь личности и добродетели, учение о государстве, обоснование предела человека в рамках Божьего замысла о нем. Причем приоритетность идей для формирования правосознания человека Ильин выстраивает именно в таком порядке – от свободы через право и государство к человеческому пределу [9].
С точки зрения преодоления современных теоретико-правовых и государственно-политических рисков именно антропологический подход, разработанный Ильиным, позволяет рассмотреть проблему кризиса современного российского правосознания – именно национального русского правосознания, по Ильину. Ильин в работе «Путь духовного обновления» называет основные причины кризисности правосознания [5]. В контексте темы настоящей статьи для нас важно, что Ильин проводит анализ причин кризиса правосознания с точки зрения постановки человека в центр предмета исследования. При этом задачей исследования он определяет понимание сущности человека в контексте анализа его духовной и социальной природы, то есть антропологического аспекта.
Позднее, уже в 1950-е годы, Ильин приходит к выводам о том, что решить извечную «русскую загадку» поможет исследование антропологии русского человека. За эти выводы Ильина впоследствии приравняли – ни много ни мало – к националисту, мыслителю, симпатизирующему фашизму. Более того, некоторые авторы указывают на «откровенный расизм» Ильина, проведя весьма интенциональный анализ его идей и работ [6].
В своей работе – своеобразном философском завещании «Национальная Россия: наши задачи» – Ильин формулирует идеи, раскрывающие взаимосвязь сложившихся к середине ХХ века антропологических выводов и разработанной им концепции правосознания. Ильин обращается к анализу работы выдающегося русского антрополога, пользующегося мировым признанием, профессора А.А. Башмакова [11].
А.А. Башмаков, анализируя пятисотлетний этап антропологической эволюции русского этноса, отмечает в качестве важнейшего результата такой эволюции установление замечательного процесса расового синтеза. Этот синтез, по Башмакову, осуществлялся на протяжении всего периода истории России и включал в себя все основные народности ее истории и территории. В результате этого процесса получилось некое величавое органическое «единообразие в различии». По Ильину, именно в рамках русской социальной и государственно-правовой реальности воплотилось это уникальное для мирового опыта единообразие при различии. Описывая уникальность русско-российской антропологической эволюции, Ильин отмечает, что именно в нем (единообразии в различии) «лежит ключ к русской загадке, которая сочетает эти два противоположных начала в единое устойчивое и умеряющее соотношение; в нем резюмируется вся история этих десяти веков, разрешивших между Эвксинским Понтом и пятидесятой параллелью ту проблему, которую другие расы тщетно пытаются разрешить и которая состояла в творческом закреплении человеческих волн, вечно обновлявшихся и вечно распадавшихся» [12].
Такой специфический результат, единственный в своем роде для человеческой истории, Ильин называет русским успехом: «Этот русский успех, там, где сто других различных рас потерпело неудачу, должен непременно иметь антропологический эквивалент, формулу, резюмирующую... выражение этой исторической мощи, которая привела к успеху после тысячи лет приспособления славянской расы». Иными словами, Ильин выводит русскую антропологическую формулу – формулу, определяющую био-социо-генетический механизм объединения разных национальностей России в единый организм. Ильин выводит новые, на наш взгляд, антропологические признаки национальности: покажи мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «узнать» и «понимать», как ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне всё это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и всё это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного.
Далее Ильин делает вывод о том, какую ведущую роль в процессе духовного единения народов в антропологическую общность играет именно «пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, укрепления в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов». По мнению Ильина, в образовании на территории Российского государства антропологической общности ключевую роль играет именно русский народ. Русский народ, славянский по своему языку, сме- шанный по крови и по множественной наследственности, роднящей его со всеми расами, сменявшими друг друга до него на русской равнине, представляет собою в настоящее время некую однородность, ярко выраженную в черепоизмерительных данных и весьма ограниченную в объеме уклонений от центрального и среднего типа представляемой им расы. В противоположность тому, что все воображают, – русская однородность есть самая установившаяся и самая ярко выраженная во всей Европе... [12].
В обоснование таких выводов Ильин приводит данные, полученные американскими антропологами и приведенные в упомянутой работе профессора А.А. Башмакова. Американские антропологи исчислили, что вариации в строении черепа у населения России не превышают 5 пунктов на сто, тогда как французское население варьирует в пределах 9 пунктов, а итальянское – в пределах 14 пунктов. Причем средний череповой тип чисто русского населения занимает почти середину между нерусифицированны-ми народами Империи. Весь этот вековой процесс, по мнению Ильина, создал в русском типе пункт сосредоточения всех творческих сил, присущих народам его территории.
Россия как особый антропологический организм
Исходя из проведенного анализа антропологической эволюции на территории России, Ильин делает вывод о том, что Россия есть единый живой организм: географический, стратегический, религиозный, языковой, культурный, правовой и государственный, хозяйственный и антропологический.
По мнению Ильина, этому организму, несомненно, предстоит выработать новую государственную организацию. Ильин указывает на самую главную опасность при создании такой организации – опасность расчленения единой государственной организации. По его мнению, расчленение России как особого единого антропологического организма ведет к длительному хаосу, ко всеобщему распаду и разорению, а затем – к новому собиранию русской территории и российских народов в новое единство. Удивительно прозорливо и особенно ярко в современных условиях выглядят предупреждения Ильина о недопустимости расчленения России на примере возможного отделения Украины, Поволжья, Кавказа. Ильин пишет о том, что, чтобы наглядно вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, необходимо взглянуть на предполагаемую судьбу «Самостийной Украины». Ильин отмечает, что этому «государству»
ВЕСТНИК 2015
ВЕСТНИК 2015
придется создать новую оборонительную линию от Овруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут и Мариуполь. Соответственно должны будут «ощетиниться» фронтом против Украины и Великороссия и Войско Донское. Оба соседних государства будут знать, что Украина опирается на Германию и является ее сателлитом; и что в случае новой войны между Германией и Россией немецкое наступление пойдет с самого начала от Курска на Москву, от Харькова на Волгу и от Бахмута и Мариуполя на Кавказ. Трагично выглядит предсказанное Ильиным и воплощающееся сегодня на Украине. Но не менее значимы и ценны для настоящего его выводы о причинах возможного расчленения России.
По Ильину, именно правосознание ( его антропологическая сердцевина ) народа – основа его государства, права, политики.
Государство и политика живут правосознанием народа и черпают свою силу и свой успех именно в нем. Вот почему всякая истинная политика призвана к воспитанию и организации национального правосознания. Так, если народное правосознание мыслит и чувствует авторитарно, то демократический строй ему просто не удастся создать. Напротив, правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархический строй народу, живущему с республиканским правосознанием; глупо и губительно вовлекать народ с монархическим правосознанием в республику, которая ему чужда и неестественна. Государственное устройство и правление суть функции «внутренней жизни народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения; они суть функции его правосознания», т.е. его духовного уклада во всем его исторически возникшем своеобразии.
Причины ( антропологические ) кризиса современного российского правосознания в пренебрежении духовным укладом народа при выборе формы государственного устройства и правления.
Вместе с тем, «говорить о преодолении кризиса современного правосознания в России рано, поспешно и в стратегической перспективе ошибочно», «цивилизационно-трагически ошибочно» – такое мнение высказал в апреле 2014 года Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин [4].
На наш взгляд, для понимания глубины кризисности современного правосознания требуются концептуальные ответы на концептуальные же вопросы:
-
1) каково влияние кризиса правосознания
на глубинные деформации в различных сферах правовой жизни?
-
2) как соблюсти баланс между юридической глобализацией и суверенитетом национальной российской юрисдикции?
-
3) как сохранить лучшие традиции отечественной юридической школы в условиях трансформации высшего образования?
-
4) что должно стать содержательной и методической основой современной юридической теории и практики?
-
5) какие идеологемы (досоветские, советские, постсоветские) выступят в роли мировоззренческих основ, которые выведут из кризиса правосознания?
Яркой иллюстрацией, отражающей кризис доверия к российской судебной системе, является образ действий (modus operandi), который свойственен конкретной системе криминальной юстиции, сложившейся в современной России. Такой образ действий является отражением образа и содержания правосознания российских судей, во всяком случае – значимой его части. К такому выводу пришли авторы исследования из ВШЭ Кирилл Титаев и Мария Шклярук, результаты которого были опубликованы в газете «Ведомости» 13 ноября 2014 года [10].
Как показал опрос почти 2000 судей, проведенный Институтом проблем правоприменения, средний российский судья тратит на изучение материалов дела всего лишь вдвое меньше времени, чем на проведение судебных заседаний. Каждый четвертый судья работает с материалами столько же или больше времени, чем тратит на заседания. По мнению авторов опроса, причиной такого отношения к правосудию как со стороны российского общества, так и со стороны сообщества судей являются мифы и заблуждения о роли судебного заседания в разрешении уголовного дела: «Кажется, что именно в зале суда принимаются все ключевые решения. Это ощущение во многом создано и закреплено телевизионными шоу про судебные процессы. На деле же главным основанием для принятия судьей решения является не ход судебного заседания (происходящее в зале), а уголовное дело – заранее собранные, подготовленные и даже проинтерпретированные доказательства, факты, описанные и задокументированные строго определенным образом» [7].
Еще более наглядно демонстрируют сложившийся у отечественных судей образ мыслей и действий следующие данные опроса, в соответствии с которыми судьи больше доверяют показаниям, которые участники процесса дали на досудебной стадии. Из судей, рассматривающих уголовные дела, 52% больше доверяют досудебным показаниям потерпевшего, 56,4% предпочитают данные во время следствия показания свидетеля тем, что он озвучил в зале суда.
Когда дело касается подозреваемого, ему в ходе судебного заседания и вовсе не верят: 70,6% судей предпочтут опираться на то, что подсудимый сказал следователю, а не в суде. Российские судьи гораздо больше внимания уделяют доказательствам, получить которые в ходе судебного разбирательства если и возможно, то затруднительно. По большому счету, в процессе судья не оценивает выступлений адвоката и обвинителя. Лишь 4 и 9,2% судей соответственно назвали эти выступления одним из трех предпочтительных источников информации.
Экспертами эта проблема осознается, именно поэтому и предлагаются самые разные версии реформирования судебной системы. Ключевое слово для сторонников возрождения роли суда как самостоятельной ветви власти – «деформализация». По мнению авторов исследования, и мы к нему полностью присоединяемся, главная задача современной общественно-профессиональной дискуссии – обеспечить это понимание, демифологизировать пространство судебного заседания [7].
Но реализации этой задачи, как мы уже отмечали выше, препятствует ряд методологических и мировоззренческих проблем отечественного правоведения. Одной из таких проблем является недостаточная разработанность концепции антропологии права и правосознания в современных правовых доктринах.
В сфере методологии юридической доктрины России до сих пор преобладает глубоко разработанный в советский период нормати-вистско-позитивистский подход, разрабатываются доктринальные идеи в рамках естественно-правового подхода и в наименьшей степени востребованы положения концепции интегративного права, в рамках которой принципиально важное значение имеет антропология права. То есть, одним фактом переконструирования конституционных начал и базовых основ системы права на человека и его интересы переориентировать систему государственно-правовой жизни на интересы, нужды и права конкретного человека пока не удается. Тем более, не удалось антропологизировать систему юридического образования.
Ключевыми вопросами в свете рассмотренных выше методологических и правоприменительных проблем являются вопросы о том, что считать достаточным или развитым уровнем правосознания, как замерить этот уровень, от какого эталона при замере следует отталкиваться: от «здорового», например по Ильину; от «советского революционного», например по Рейснеру, или «глобально-гуманистического» – по современным, преимущественно западным, представлениям.
«Правосознание, – как подчеркивал И.А. Ильин, – есть особого рода инстинктивное право-чувствие, в котором человек утверждает свою собственную духовность и признает духовность других людей; отсюда и основные аксиомы правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность к самообязыванию и самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей друг к другу. Эти аксиомы учат человека к самостоянию, свободе, совместности, взаимности и солидарности. И прежде всего, и больше всего – духовной воле» [13].
Исходя из доминировавшего в советское время определения: «Правосознание – это сфера общественного или индивидуального сознания, включающая правовые знания, отношение к праву и правоприменительной деятельности. В свою очередь, право и практика его применения воздействуют на содержание общественного и индивидуального правосознания. Решающая роль в становлении индивидуального и группового правосознания принадлежит политическим и социально-экономическим условиям жизни общества. Индивидуальное правосознание формируется под влиянием обучения, воспитания, традиций, нравственного климата той среды, в которой находится человек».
В этом «каноническом» для советской официальной идеологии и рамок социальных наук определении роль личности человека сводится к объекту воздействия со стороны «правильной» среды. На наш взгляд, заданные в советский период методологические рамки концепции правосознания остаются доминирующими в современной отечественной правовой доктрине и поддерживают кризисность современного российского права и правосознания.
Анализ реализации программных документов в сфере преодоления кризиса отечественного юридического образования показывает, что практические шаги государственных институтов и образовательной общественности плохо концептуально скоординированы, носят непоследовательный, а часто противоречивый характер. В таких решениях преобладают экономико-политические резоны совершенствования юридического образованиям, а не собственно
ВЕСТНИК 2015
ВЕСТНИК 2015
образовательные, психолого-педагогические и антропологические.
Вместе с тем, именно вопросы методологии современного юридического образования оказались наименее разработанными и требуют повышенного внимания к себе в свете разворачивающихся сценариев государственно-правовой жизни России. Такие методологические просчеты носят, на наш взгляд, ни много ни мало, характер теоретико-правовых и государственно-практических рисков. Иными словами, теоретико-правовые риски в сфере исследования правосознания проявляются в наличии разнонаправленных векторов (разнородность отношения к принципу «табула раса» как методологической основы правосознания - по В.Д. Зорькину) таких концепций: от идей сторонников традиционализма до революционных авангардистских и интегративных модернистских подходов [4].
Так, например, в содержании Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Юриспруденция» указаны требования к квалификации выпускника бакалавриата [8]:
-
1) осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-
2) способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Как видно, в содержании компетенций отмечаются такие характеристики правосознания юристов, как «развитое» и «достаточный уровень», но в нормативных и организационнометодических установлениях рассматриваемого стандарта не раскрывается методологическое и технологическое обеспечение достижения заявленных высоких целей.
Достижению целей по формированию правосознания юристов, предусмотренных ФГОС, может способствовать, на наш взгляд, реализация в преподавании юриспруденции антропологического подхода, или антропологизация юридического образования. Особое место в антропологи-зации юридического образования, на наш взгляд, занимают дисциплины теоретико-правового цикла: философия права, история и методология юридической науки, теория государства и права, профессиональная этика, юридическая психология, антропология права и другие.
Ключевой методологической проблемой в реализации идей антропологизации юриспруденции является отсутствие концепции совре- менной педагогической юридической антропологии. При этом следует отметить, что с точки зрения исторического (временного) аспекта такая концепция в отечественной теории права и государства была в свое время разработана.
Так, например, в качестве основных особенностей педагогической антропологии И. А. Ильина, в целом, можно выделить следующие принципы воспитания:
-
1) традиционализм: воспитание нацелено на достижение гармоничного вхождения в социокультурную традицию;
-
2) солидаризм: воспитание не должно строиться на индивидуалистических принципах, напротив, утверждается идея соборности, здорового коллективизма и национализма;
-
3) гражданственность (правосознание), патриотическое воспитание;
-
4) иерархизм (идея ранга) и авторитаризм;
-
5) этицизм - доминирование духовно-нравственных ценностей в мотивационном комплексе самореализации личности.
Другое дело, что с точки зрения необходимости учета современных реалий эта концепция нуждается в актуализации как с учетом исторического опыта России, так и опыта зарубежных стран. Небольшой опыт реализации антропологического подхода на юридических факультетах университетов показывает, что наиболее целесообразно применять комплексирование как метод имплементации антропологии права в преподавании юриспруденции. Например, в программу учебной дисциплины «Теория государства и права» целесообразно включать следующие темы: 1) в раздел № 1 «Методология теории государства и права. Введение в юриспруденцию» -тему № 3 «Социальные, психологические, нравственные основания возникновения государства и права»; в раздел № 5 «Правовая система и правовая жизнь» - тему № 31 «Антропология государства и права».
В программе дисциплины «Юридическая психология» возможно реализовать антропологический подход в темах, посвященных правовой социализации личности, анализу причин преступного поведения и личности преступников, психологии коммуникативной деятельности следователя и суда, этических и психологических проблем профессионализации юристов. Для магистров разработана программа учебной дисциплины «Антропология права» как дисциплина по выбору, основными содержательными единицами которой стали темы, посвященные определению места человека в системе традиционного права и позитивного (европейского) пра- ва, современной семье и праву, правам человека в контексте биоэтики, морали, религии.
Представляется, что идеи антропологии правосознания И.А. Ильина выступают надежным вектором дальнейших теоретических и прикладных поисков, дают реальную возможность преодоления существующих и возможных теоретико-правовых рисков. Приоритетными направлениями таких исследований, на наш взгляд, могут быть: выявление и учет особенностей цивилизационного развития отечественного и зарубежного права и правосознания; исследование теоретико-правовых конструктов и универсалий, объединяющих/разделяющих модусы отечественного и зарубежного правосознания; выработка антропосообразных и практико-ориентированных моделей правомерного поведения.
Список литературы Идеи И.А. Ильина об антропологии правосознания: опыт, риски, решения
- Новгородцев П.И. Введение в философию права: кризис современного правосознания/РАН. Ин-т государства и права. -М.: Наука, 1997. -269 с.
- Муромцев С.А. Статьи и речи: в 5 вып. -М., 1908-1910.
- Таганцев Н.С. Магистерская диссертация «О повторении преступлений». -СПб., -1867.
- Интернет-источник: http://www.rg.ru/2014/04/07/zorkin.html
- Ильин И.А. Путь духовного обновления. -М.: Русская книга, 1996. -Т. 1.
- Материалы Международной научно-практической конференции «Ильинские чтения». -СПб., 2014. -С. 68-70.
- Интернет-источник: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/35916091/bumazhnye-dela
- Интернет-источник: минобрнауки.рф/документы/1879
- Ильин И.А. Учение о Боге. -М.: Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1918.
- Интернет-источник: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/35916091/bumazhnye-dela
- Башмаков А.А. Пятьдесят веков этической эволюции вокруг Черного моря. -Париж, 1937.
- Ильин И.А. Национальная Россия: наши задачи. -М., 2011. -464 с. -С. 158.
- Ильин И.А. О сущности правосознания. -М., 1993. -С. 73.