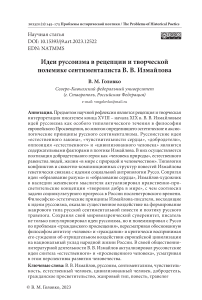Идеи руссоизма в рецепции и творческой полемике сентименталиста В. В. Измайлова
Автор: Головко В.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом научной рефлексии является рецепция и творческая интерпретация писателем конца XVIII - начала XIX в. В. В. Измайловым идей руссоизма как особого типологического течения в философии европейского Просвещения, во многом определившего эстетические и аксиологические принципы русского сентиментализма. Руссоистские идеи «естественного закона», «чувствительности сердца», «добродетели», оппозиция «естественного» и «цивилизованного человека» являются содержательными факторами в поэтике Измайлова. В них осуществляется поэтизация добродетельного героя как «человека природы», естественного равенства людей, жизни «в мире с природой и человечеством». Типология конфликтов и сюжетно-композиционных структур повестей Измайлова генетически связана с идеями социальной антропологии Руссо. Сопрягая идеи «образование разума» и «образование сердца», Измайлов-художник в наследии женевского мыслителя актуализировал нравственно-просветительские концепции «творения добра в мире», с чем соотносил задачи социокультурного прогресса в России послепетровского времени. Философско-эстетические принципы Измайлова-писателя, восходящие к идеям руссоизма, оказали существенное воздействие на формирование жанрового типа русской сентиментальной повести и поэтику русского травелога. Сохраняя свой мировоззренческий суверенитет, писатель не только популяризировал идеи руссоизма, но и полемизировал с Руссо по проблемам «гражданского просвещения», пересматривая обоснованную философом антитезу «человек» & «гражданин» и критически воспринимая его суждения об отрицательном воздействии европейской цивилизации на национальный уклад народной жизни России. В своей общественно-литературной деятельности В. В. Измайлов актуализировал руссоистские идеи синтеза «естественного» и «просвещенного человека», усматривая в этом перспективы развития человечества.
В. в. измайлов, руссоизм, сентиментализм, чувствительность, естественный человек, цивилизованный человек, добродетель, гражданское просветительство, жанровый тип, повесть, травелог
Короткий адрес: https://sciup.org/147241427
IDR: 147241427 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12522
Текст научной статьи Идеи руссоизма в рецепции и творческой полемике сентименталиста В. В. Измайлова
И сторико-культурная эпоха сентиментализма и предро-мантизма в общественном и художественном сознании запечатлелась как «век философический»1. Воздействием идеологии европейского Просвещения ХVIII столетия были обусловлены основные эстетические и аксиологические принципы русской литературы этого времени. Тенденция максимального сближения просветительской философии и этики, с одной стороны, и художественной практики писателей-сентименталистов — с другой, укреплялась нацеленностью литературного творчества на решение проблем нравственного обеспечения социокультурного прогресса в России послепетровского времени. «Философия от колыбели мира присутствует в совете великих умов, чтобы исследовать причины зол и образовать науку добра», — писал в статье «Религия и философия» один из самых ярких и убежденных адептов идей руссоизма в литературе русского сентиментализма Владимир Васильевич Измайлов2.
Просветительская идеология Руссо, его мысли о нравственном чувстве «естественного человека» и представления о силе «разума», о «добродетели» находили отклик не только у Измайлова, но и у многих других деятелей эпохи сентиментализма. В философии Руссо писателя привлекала проповедь равенства всех людей, ориентация на «изучение человеческой природы с того, что действительно неразлучно с нею, что составляет суть человечества»3. Руссо в трактате «О начале и основании неравенства между людьми», рассматривая «основания человеческого общества» и «искусственно введенное в нынешней природе человеческой», обосновывал в парадигме «естественного закона» то, что люди «равны между собою»4. Существенно то, что понимание «естественного права» у Руссо включало в себя, прежде всего, ценности человеческого бытия (см.: [Занин]). Естественное равенство людей отстаивал и Вольтер, полемизировавший со многими идеями Руссо. Карамзин и особенно Измайлов со всей очевидностью тяготели к философской антропологии и этике Руссо, сохраняя при этом свой мировоззренческий суверенитет.
Представления о «человеке, живущем в естественном состоянии» в соответствии с «законами природы», о самоценном стремлении «человека природы» к «добродетели» ( Руссо : 62, 210), лежащие в основе руссоизма, определяли философско-эстетические принципы литературы русского сентиментализма.
«Естественный (naturel) человек существует весь для себя; он численная единица, абсолютное целое, имеющее отношение только к себе самому или к себе подобному» ( Руссо : 14), — так формулировал Руссо одну из основополагающих идей европейского Просвещения. Бинарная оппозиция «цивилизованный человек» и «естественный человек» рассматривалась женевским мыслителем как отношение «дробной единицы» к «целому» ( Руссо : 14). Определяя при этом человека как существо общественное, философ-просветитель актуализировал проблему отношений личности и социума:
«Общество сделало человека более слабым, не только тем, что отняло у него право располагать своими силами, но и в особенности, тем, что сдел ало их недостаточными для него» ( Руссо : 61).
На этой матрице создавались характерология и типология сюжетно-композиционных структур произведений сентиментализма как литературного направления, как художественнопознавательного цикла.
Признанный глава русского сентиментализма Н. М. Карамзин и его последователи — «карамзинисты» — в противовес «архаистам» манифестировали ориентацию на европейскую культуру, на философские идеи Руссо, Вольтера и других французских просветителей. Показательно то, что в 1802 г. Карамзин в Москве начинает издание журнала «Вестник Европы», реализуя тем самым идею приобщения России к историческому опыту других народов. В «Письме к Издателю», которым открывался первый номер журнала, говорилось о том, что наступило время, когда «уже деятельный разум во всех состояниях, во всех землях, чувствует нужду в познаниях и требует новых, лучших идей»5. К европейскому Просвещению Карамзин обратился с целью «помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский»6. В 1814 г. эту журналистскую эстафету подхватил В. В. Измайлов.
Его система взглядов и эстетика складывались под определяющим воздействием идей руссоизма как «особого типологического явления европейской культуры» (см.: [Лотман, 1967: 208–214]). Не случайно автор-повествователь практически во всех произведениях этого писателя предстает в образе «чувствительного Философа», который «довольствуется теми немногими благами, которые приносят ему сердце и природа» ( Религия : 53). Это «истинный сын мудрости», предпочитающий «царству вселенной тот простой соломенный кров, который питает в нем миролюбивые добродетели» ( Религия : 53). Как отмечалось в научной литературе еще начала ХХ в., «добродетель, по мнению Руссо, не есть пассивное состояние, а, напротив того, действенное начало: она развивается в борьбе личности про тив всякого ро да внешних и внутренних препятствий», против
«страстей» [Розанов: 13, 14]. «…Сила есть основа всякой добродетели», — подчеркивал философ, сопрягая это понятие с такими, как «человечность», «справедливость», «красота» ( Руссо : 451, 345, 237). Утверждение добродетели, считал Руссо, является главной задачей просветителя, то есть он не сводил просветительство лишь к достижениям наук и искусства при всей их значимости [Луков].
Вера в то, что «суть человечества» в равной мере проявляется в каждом индивиде, мысли об отсутствии «прирожденной испорченности в сердце человеческом» ( Руссо : 210, 71), представления о «распространении на земле царства доброде-тели»7 как условии поступательного развития социума разделялись последователями просветительских идей европейских философов. Измайлов писал, что «великие перемены государственные» объективно отражают «постепенный ход разума», «продвижение вперед по пути науки и образования» ( Взгляд : 248), и направлены они должны быть именно на утверждение «добродетели». Суждения об общественной роли образования, «гражданского просвещения», которые «приводят к совершенству науку гражданского счастия» ( Религия : 52), ( Взгляд : 249), находили отклик не только у Измайлова, но и у многих других деятелей эпохи сентиментализма. По справедливому утверждению современных исследователей философского наследия Руссо, «признание ценности просвещения влияло на восприятие в России руссоистской идеи естественного человека» [Овчинникова, Златопольская: 178]. «Само содержание понятия "прогресс" менялось во времени», но их «представления об улучшении человека и человечества, о закономерности поступательного развития, о единстве исторического пути различных народов — оставались неизменными» [Лотман, 1987: 202].
Понятие «естественного человека» в руссоизме было органично связано категорией-концептом «чувствительное сердце». В сенсуализме английского философа-просветителя Джона Локка (1632–1704), в его теории познания, ставшей мировоззренческой основой сентиментализма, всё зиждилось на тезисе: «…чувства сперва вводят единичные идеи и заполняют ими пустое место… затем разум абстрагирует их»8. Измайлов актуализировал именно эту идею, когда на страницах журнала «Патриот» писал: «Но вдруг явился бессмертный Локк с доказательствами сего великого аксиома, что умственные способности проистекают из чувственных впечатлений. <…> Развивать способности разума есть, конечно, великое достоинство; но другое, гораздо превосходнейшее, есть обрабатывать сердце, нравственность и рассудок»9. «Чувствительность» в литературе сентиментализма трактовалась как «способность к состраданию», «отзывчивость», «гуманность», «добродетельность», «человечность» [Кочеткова: 18–21], в сознании современников Измайлова эта категория сопрягалась с этическим комплексом совести10. О «чувствительном сердце» как непременном условии истинности постигаемого мира и «истолкования добродетели» писали и Карамзин11, и Измайлов (Взгляд: 250), (Путешествие: 133). «Достойный писатель есть верный исполнитель природы и доброго сердца», — подчеркивал последний в статье «Взгляд на истинное достоинство писателя» (Взгляд: 250). Понятие «чувствительность сердца» в значении «сострадательности», то есть «качества, трогающегося человека несчастием другого», было зафиксировано в словарных изданиях того времени12. Концепт «чувствительное сердце» во всей его «ментальной сложности» [Гудова, Юань: 153] находился в эпицентре концептосферы произведений Измайлова, как художественных, так и публицистических.
В культуре сентиментализма органически соединялись идеи «образование сердца» и «образование разума», утверждался важнейший постулат руссоизма — «познать человека в его природе»13. Новое понимание человека по сравнению с классицистической традицией выражалось в психологизированном, хотя и весьма нормативном, постижении «внутреннего человека» через изображение его «чувствительности».
Рецепция этико-философских, социологических, эстетических, педагогических и т. д. идей европейских просветителей в России не носила характер безусловного заимствования или подражания: с ними нередко полемизировали русские мыслители, писатели, общественные деятели, особенно по вопросам понимания природы человека, «общественного договора», форм социального переустройства, воспитания юношества (см.: [Лотман, 1967: 223–231], [Кочеткова: 37–45, 51, 138, 182]). Если, например, с точки зрения Руссо, современные ему формы государственности не являются «нормальными», «правильными», то Измайлов, как можно судить по его статье «Взгляд на истинное достоинство писателя» (1818), по его художественным произведениям, вовсе не считал современный «гражданский порядок» в России «неправильным». Более того, с Европой, преодолевшей «грозные бури, нанесенные разрушительным духом времени», то есть революционными событиями 1789 г. в Париже, он связывал будущее своей страны, а монархию в России считал предметом изучения «счастливого историка нынешнего царствования» ( Взгляд : 247, 248, 249).
Карамзина и Измайлова мало привлекали политические идеи Руссо: им импонировали его инвективы в защиту достоинства и независимости человека из любой социальной среды, утверждение моральных ценностей. Главную задачу писателя Измайлов видел в «творении добра в мире», в «распространении царства добродетели» ( Взгляд : 248, 250). Этим определялись основные черты поэтики его литературных произведений: доминирование в них социально-психологических конфликтов, полярность в персонажной системе, про являвшаяся в резком противопоставлении «чувствительных»
героев, близких к природе, носителям пороков «цивилизации», сюжетные коллизии испытания героев жизненными обстоятельствами, противоречащими родовой сущности «естественного человека», пафос утверждения «добродетели» и т. д. Измайлов, апологизируя не «общественного» (как было до того в классицизме), а «личного» человека, вовсе не сводил «личное» к «частному». В естественном стремлении людей к радости жизни, к собственному благополучию, к преодолению страданий и т. д. он усматривал проявление законов природы, открываемых «чувствительному сердцу», способному осознать естественное право каждого человека на счастье, независимо от его социального положения. «Служить человечеству и наслаждаться жизнью — вот правила, в которых, по моему мнению, заключается всё благополучие!» — так формулирует кредо «чувствительного человека» повествователь в повести Измайлова «Ростовское озеро»14.
В этом произведении этико-социологические идеи руссоизма являются фактором, определяющим формирование художественного целого. Поэтика повести складывается как система «опредмечивания» вышеуказанных идей руссоизма. В «Ростовском озере» конфликт объединяет две линии: с одной стороны, структурообразующую роль здесь выполняет коллизия противоречивой взаимосвязи мига «жизни человеческой» и «безмолвной вечности», человека и судьбы, а с другой, — история неизбежного столкновения «чувствительных существ» с «несправедливыми, жестокими людьми»15. Сюжетные коллизии развиваются в результате противодействия поборников «человеческого равенства» и тех, кто не способен подняться до понимания того, что «чувствовать умеет и всякая крестьянка»16. Сюжет произведения, представляющий собою «рассказ в рассказе» двух «чувствительных сердец» о трагической судьбе добродетельной Анюты, становится инструментом художественного анализа человеческой души и одновременно олицетворением авторской мысли, укорененной в философии руссоизма. Поэтому повествователь, являющийся одним из героев повести, предстает как человек, который «осуществляет мечты Руссова воображения»: он живет «среди сельской простоты», в «уединении», «питая свой дух изящными науками» и совершенствуя «свое нравственное бытие»17. Тип повествования приобретает исповедальный характер. Подобная поэтика повествования складывалась в произведениях русского сентиментализма под непосредственным влиянием «Исповеди» «женевского мыслителя» [Лотман, 1967: 212]. Художественному миру такой повести, как «Ростовское озеро», органичен образ самого Руссо, и неслучайно повествователь, говоря о приобщенной к культуре и просвещению главной героине повествования, замечает, что «сам Руссо, творец Элоизы, не постыдился бы рассуждать с ней о прекрасном своем романе»18.
Пропагандировавшая просветительские идеалы, этику «добродетели» сентиментальная проза в России, развитию которой в немалой степени способствовал В. В. Измайлов, начиналась с произведений романного типа (Ф. А. Эмин, Н. Ф. Эмин, П. Ю. Львов), что не удивительно, поскольку русские писатели ориентировались на западноевропейские образцы, на романы Ричардсона, Руссо, Гёте, пользовавшиеся у читателей особой популярностью. Но в жанре романа литература русского сентиментализма особых успехов не достигла. Это объясняется тем, что жанровой проблематике крупной эпической формы, ориентированной на «поэтическое представление человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни»19, не вполне соответствовало изображение внутреннего мира «чувствительного человека», погруженного в мир личных переживаний. Другое дело — повесть, предрасположенная к изображению жизни «с одной стороны, но в целом» [Головко: 67], а также жанр «путешествия», в котором, еще начиная с «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» Л. Стерна, как правило, преобладали не объективные описания окружающего мира, а формы самораскрытия духов ного мира авт ора-повествователя.
Избирательным отношением карамзинистов к идеям Рус-со-философа и Руссо-политика [Лотман, 1967: 268] объясняется специфика художественного освещения социальных конфликтов в прозе В. В. Измайлова. Вполне закономерно и ожидаемо то, что в произведениях писателя доминировала идея самоценности человека в его «естественном состоянии». «Природная чувствительность», личная «доброта», «чувствительное, непорочное сердце» в прозе писателей, находившихся в поле идей руссоизма, — это важнейший характерологический критерий, и те персонажи, которые этому идеалу не соответствовали, были объектами критического изображения (повести Н. С. Смирнова, Г. П. Каменева, М. В. Сушкова, Н. П. Милонова, П. Ю. Львова, А. И. Клушина и мн. др.). Ставшая в сентиментальной повести весьма распространенной сюжетная коллизия противопоставления «естественного человека», живущего на лоне природы, лицемерным и эгоистичным гедонистам из «цивилизованного» света, которая завершалась нередко трагической развязкой, формировалась как литературная традиция под воздействием повестей Карамзина («Евгений и Юлия», «Бедная Лиза», «Юлия») и идущего ему вслед Измайлова («Ростовское озеро», «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор», «Сироты в Малороссии, или Цветы: Иван да Марья», «Молодой Философ»). Данная тенденция была усилена в произведениях тех сентименталистов, которые воссоздавали общественные условия, препятствующие «счастью» их героев. Порою подобные произведения приобретали антикрепостническое звучание, хотя чаще всего в приглушенном виде («Софья» Г. П. Каменева, «Российский Вертер» М. В. Сушкова, «История бедной Марьи» Н. П. Милонова, «Даша, деревенская девушка» П. Ю. Львова и др.). Все эти произведения создавались во второй половине 1790 — начале 1800-х гг., то есть после публикации «Бедной Лизы» Карамзина (1792) и «Ростовского озера» Измайлова (1795) — знаковых повестей, в полной мере воплотивших аксиологические нормы сентиментальной культуры.
Эстетика Измайлова в максимальной мере была соприродна принципам генерирования жанровой поэтики сентиментальной повести. Писатель, в отличие от других сентименталистов, был не только одним из подражателей Карамзина, но и участником своеобразного процесса их сотворчества: оба писателя создавали сюжетную модель повести такого жанрового типа. Историческая поэтика сентиментальной повести формировалась под определяющим воздействием творческого опыта как Н. М. Карамзина, так и В. В. Измайлова.
Дело в общности философско-эстетических установок авторов, большим авторитетом для которых был Руссо. «Чувствительный» герой, персонифицирующий «добродетель» «естественного человека», приобретал черты архетипа. Высокий «дух» героя-повествователя в повести «Ростовское озеро», которого окружает мир «сельской простоты», образовала «благодетельная природа»; «под кровлею смиренной хижины»20 обретают счастье, несмотря на вторжение враждебных сил, добродетельные Татьяна и Филипп в повести «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор». Жизненные «жестокие опыты» «чувствительного» Эмиля в повести «Молодой Философ» были следствием глубокого несоответствия того, что в нем было «образовано рукою Природы», с тем, что требовала «обработка себя для общества»21. Главные герои повести «Сироты в Малороссии, или Цветы: Иван да Марья» сталкиваются с «жестокой несправедливостью», становятся жертвами состоятельных и власть имущих «злодеев», «лихоимцев бессовестных», «бесстыдных», «перед Богом бесстрашных», но при этом сохраняют «глубокую чувствительность в сердце», «добродетельность» и сущностные качества «человеческой природы»22.
Будучи феноменом эйдетической поэтики, сентиментальная повесть, основанная на идеях руссоизма, в жанровом отношении была достаточно нормативной. Укажем на особенности такой «жанровой но рмы», обращаясь к произведениям Измайлова.
Во-первых, сюжетно-композиционная система сентиментальной повести, определяемая контрастом в изображении персонажей, «близких к природе» ( Ч. 1, 1800 : 25), имеющих «всё для спокойствия и радости»23, и тех, которые не являются «чувствительными существами», не находятся «в мире с природой и человечеством»24, в повести такого жанрового типа приобретала характер родового признака. Подобная типология восходила к одному из основных тезисов руссоизма, сформулированному устами героя Измайлова: он «приписывал происхождение нравственных зол обществам гражданским…» ( Ч. 2 : 125). Указанная антитеза в системе образов давала автору возможность утверждать свое понимание «счастья»:
«…С любовию и природою человек мог бы всегда быть весел и доволен, если бы люди, жестокие люди не возмущали спокойствия доброго сердца и не нарушали порядка природы!»25.
Этим был обусловлен главный структурообразующий мотив произведений Измайлова и других сентименталистов — мотив противодействия «естественного человека», человека «чувствительного сердца», который «мирные дни проводит в повиновении законодательной природе»26, и «цивилизованного» прожигателя жизни из сословных верхов, представляющего «общество». Данный сюжетный мотив закреплялся в виде литературной традиции.
Во-вторых, концепт «доброе сердце», объединяющий и повествователя, и героев, отвечающих его ценностным критериям, создает в повестях Измайлова ту художественносмысловую целостность, которая объективирует авторскую позицию, связанную с утверждением приоритета «вечных законов природы» над «законами народов», того понимания свободы в проявлении «естественных наклонностей», которую не исказили «предрассудки и учреждения человеческие» (Руссо: 481, 62). Для выражения нравственно-эстетической позиции писателя весьма существенно то, что герои его сентиментальных повестей сами живут в мире идей руссоизма. Герой повести «Молодой Философ» «в тишине сельского уединения» воспитывался «по системе Руссовой», ему отец и имя «Руссова воспитанника» дал — Эмиль27. Ипполит из повести «Обе школы, или Свет и уединение» намеревается воспитывать своих будущих детей на основе «сочинений о воспитании» Локка и Руссо28. В повести «Ростовское озеро» для психологического раскрытия характера героя — «молодого несчастливца», потерявшего любимую, значима знаковая функция моральных констант философии «чувствительности»: он, ощущая себя «точкой в пространстве творения», стремится к «просветлению разума своего», к «удобрению сердца» в целях «улучшения нравственного своего бытия»; «предмет, достойный его любви», ассоциируется у него с героиней романа Руссо, предстает в «образе новой Элоизы, прекраснейшей из всех существ»; его идеалом является жизнь «в недрах простоты и спокойствия»; его «чувствительное сердце» способно «глубоко чувствовать печали и радости»29 не только свои, но и чужие и т. д. В аксиологической системе данного произведения, как и вообще в сентиментальной повести, сострадание показано как проявление подлинной человечности (концепт «сострадание» у сентименталистов еще задолго до Шопенгауэра приобретал свойства «могущественности»30). Героиня повести — молодая крестьянка — это «ангел с Юлиным сердцем», «покоящийся под эгидою элоизиной добродетели». «Нежно чувствует» не только она, но и любящий ее герой, душа которого «наслаждается небесным блаженством». В восприятии повествователя и «благодетельная природа», окружающая героев повествования, является «убежищем блаженства»31. В этом обнаруживалась внутренняя связь писателя с автором «Юлии, или Новой Элоизы», творческие искания которого соответствовали «прогрессу нравов» и тенденциям формирования философско-эстетических принципов искусства сентиментализма [Mor-net: 461]. Художественный мир повестей Измайлова не как проявление индивидуальной мифологии автора, а как символическая модель мира, как система концептов, целостно организован, как видим, основными идеями руссоизма.
В-третьих, в повестях Измайлова оформился особый жанровый тип концептуального хронотопа, когда событийное время непременно представляло собою «абсолютное прошлое», а художественное пространство напоминало некие общие декорации окружающей «природы»: «хижина» героев недалеко от озера, реки или какой-либо другой водной стихии, «рощицы», пейзажные описания, близкий монастырь и т. д. Завершались такие повести чаще всего трагическим финалом, причиной которого могли быть как действие «злодея», так и «случай». Нередки были и такие финалы, когда герои могли избавиться от реальной опасности благодаря чьей-то доброй воле или опять же «случаю» («Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор»). Повествователь как субъект речи и сознания, хорошо осведомленный в сути тех событий, о которых он рассказывает, становится основной формой объективации образа автора. Сохраняя жанровую специфику в изображении прошлого, писатель актуализировал идейно-художественную роль перцептуального времени героя и усложнял пространственные композиции традиционной сентиментальной повести, придавая им разнообразие и усиливая их смыслообразующее качество. Так, время в его психологическом переживании влюбленными героями в повести «Ростовское озеро» принципиально не эквивалентно его реальному протеканию, в чем проявляется уже роль авторской интенции, а не власть традиции. В системе эйдетической поэтики появлялись, таким образом, элементы поэтики модальности, и авторские художественные инициативы в области изображения переживания времени, связанные с установкой на изображение «внутреннего человека», активизировали искусство психологизма, эстетику «искренности» в произведениях не только Измайлова, но и других писателей-сентименталистов, когда «искренность мыслилась именно как освобождение сущности от социальных отношений» [Лотман, 1967: 212].
Творец «второй реальности», восходящей к идеям руссоизма, и сам начинает жить по законам создаваемого им художественного дискурса. Автор-повествователь и автор-творец в сентиментальной повести Измайлова максимально сближаются. В очерке «О жизни и сочинениях Подшивалова» воссоздан образ писателя, в котором синтезированы «способности разума» и «достоинства в сердце». Художник слова как человек «добродетельного сердца» наделяется такими качествами, как «честность и доброта, бескорыстие и сострадание к несчастному, верность в дружбе, примерная скромность и откровен-ность»32. В свете таких же критериев Измайлов строил и свою литературную биографию. По воспоминаниям современников, как «человек умный и просвещенный»33, он предпочитал «независимую сельскую жизнь»34, погружаясь в мир «красот природы и поэзии»35. «Занятый мечтами чувствительности, филантропии и философской беспечности»36, писатель продал наследственное имение, чтобы купить библиотеку и совершить в 1799 г. собственное «сентиментальное путешествие» по центральной России, Малороссии, Новороссии, Северному Кавказу, по регионам реки Волги. Он не только пропагандировал идею добра, но и воплощал эту идею в своей общественной и литературно й деятельности.
«Чувствительным сердцем» наделен в основном сочинении Измайлова «Путешествие в полуденную Россию» (1800–1802) автор-повествователь, представляющий свой «философический век» ( Ч. 4 : 77, 82). «…Философический дух нашего времени требует от наблюдателя, чтобы он означил быстрое или медленное течение народа к успехам всемирного разума» ( Ч. 1 : 197), — такую перспективу развития «полуденной России» намечал автор «Путешествия», рассматривая возможность обретения счастья отдельным человеком только в том обществе, которое не противоречит идеалам «жизни в естественном состоянии» ( Руссо : 62). Среди произведений в жанре травелога, создававшихся в то же самое время такими писателями, как П. И. Сумароков, П. И. Макаров, Н. П. Брусилов, П. И. Шаликов, М. И. Невзоров и др., «Путешествие» Измайлова отличалось особой спецификой образа повествователя и достоверностью как художественным качеством его сочинения. Автор-повествователь — это не тот условный образ многих «Путешествий», который восходил к «Письмам русского путешественника» Карамзина, а во многом alter ego самого автора. Если в произведении Карамзина «имитировалась документальность» [Лотман, 1981: 107], то у Измайлова, учитывавшего художественный опыт своего предшественника (см.: Ч. 2 : 19) и тоже писавшего свое «Путешествие» в виде писем, документальное начало уравнено по значению с авторской рефлексией. Более того, он был фактологически точен во многих описаниях, а некоторые письма являются страницами своего рода дневника «чувствительного существа» — «пилигримствующего» «Философа» ( Ч. 1, 1800 : 6). Тем самым Измайлов способствовал укреплению важной тенденции, наметившейся в жанре травелога, — повышению значимости изображения невымышленных событий в литературных «Путешествиях» русских писателей (см.: [Шёнле]).
Основные проблемные установки и интенции автора «Путешествия в полуденную Россию» находились в компетенции идей руссоизма (о чем автор дает понять уже на первой странице своего сочинения, представляясь читателю «чувствительным существом» (см.: Ч. 1, 1800: 6)), тем не менее, нравственноэстетическая позиция писателя как носителя творческой концепции произведения была во многом обусловлена его полемикой как с самим Руссо, так и известным ученым-естествоиспытателем, «добрым Философом» П. С. Палласом (Ч. 2: 122), «Путешествие по разным провинциям Российской империи» которого вышло в Петербурге в 1773–1778 гг. в трех частях (в пяти книгах).
Рецепция просветительских идей Руссо в «Путешествии» Измайлова зависела не от тех общественных настроений 1790-х гг., которые невольно возникали в результате ассоциации идей женевского философа с революционными событиями во Франции, а от трактовки автором идей руссоизма в контексте рассмотрения проблем национально-исторического развития России.
Рассматривая вопрос о полемике Измайлова с Руссо по проблеме «гражданского просвещения» ( Религия : 52), важно вспомнить, что в русской культурной традиции сложилось отрицательное отношение к оппозиции «человек» и «гражданин», обоснованной в социальной философии этого мыслителя. Руссо считал, что в современном цивилизованном обществе «человеком природы» быть уже нельзя, а гражданином еще невозможно, поскольку не достигнут народный суверенитет. Идеал «образованной личности» и идеал «свободного гражданина» оказывались у просветителя не совместимыми [Groethuysen: 313–314], поскольку находились в известном противоречии нравственный и общественный аспекты его социальной философии [Vincenti: 149, 180]. Измайлов, как и многие его современники, вовсе не считал, что идеал слияния «естественных», родовых и гражданских качеств в отдельном человеке не достижим в условиях современного общества. Руссо так обосновывал эту оппозицию, исходя из основного тезиса о противоречии «человека природы» и современного «цивилизованного» общества:
«Раз приходится бороться с природой или общественными учреждениями, надо выбирать, кого делать: человека или гражданина, — так как нельзя сделать разом того и другого.
Всякое частное общество, если оно узко и хорошо объединено, становится чуждым большому» ( Руссо : 14).
Руссо дифференцировал понятия «обязанности человека» и «обязанности гражданина» (Руссо: 455). Для Измайлова сам Руссо являл пример единства «человека» и «гражданина», потому в «Путешествии» он подчеркнуто называет философа «Женевским гражданином» (Ч. 2: 120) и такое единство рассматривает в качестве критерия определения природы и сущности человека. Если для Руссо люди «неправильных», то есть противоречащих нормам жизни «естественного человека» форм современного социума в терминологии «общественного договора» «гражданами» не являются, то Измайлову перспектива формирования гражданина будущего средствами приобщения всей России к достижениям просвещения и наук представлялась вполне реальной и достижимой. Эту идею он последовательно развивал, описывая, например, быт и нравы «диких народов» (Ч. 4: 21) — крымских татар или северокавказских черкесов. В самом начале четвертой части «Путешествия», завершая описание бытового уклада казаков на Кавказской линии и предвосхищая описание устоев жизни «любопытнейшего из кавказских народов» — «народа черкесского», писатель декларировал свою основополагающую сентенцию: «успехи просвещения» должны «сделаться общими» (Ч. 4: 4). «Благодетельный свет… науки и просвещения» «необходим для счастия» (Ч. 4: 27, 5), — настаивал он, — только просвещение дает народам «чувствовать цену его состояния в сравнении с другими» (Ч. 1: 74). При этом автор-повествователь, имея в виду не только «непросвещенные» народы, но и Европу, вынужден был констатировать: «…Заря просвещения взошла только над одной частью света и оставила другую в глубокой темноте» (Ч. 4: 5). Просвещение необходимо, поскольку человек пока не стал «исполнителем природы и доброго сердца» (Взгляд: 250). Просвещенный и высоконравственный человек, по глубокому убеждению писателя, становится обладателем истинных гражданских качеств: «Привести в совершенство науку гражданского счастия» можно, по его словам, в том случае, когда просвещение и наука станут «творением человеческого рода» (Взгляд: 249). «Свобода народов», «защищенные права человека» — это непременное условие формирования в просвещенном обществе таких гражданских качеств человека, как «уважение к вере, к законам», «любовь к добродетелям», «преданность обществу во всех государственных состояниях» (Взгляд: 249). Формирование человека-гражданина при достижении торжества «добродетели» является гарантом «общей безопасности и общего достоинства народов» (Взгляд: 248). Таковой была альтернативная позиция Измайлова по отношению к дуалистической концепции Руссо «человек» и «гражданин». Его трактовкой «добродетели», этой важнейшей идеи эпохи Просвещения, поддерживалась основная структурообразующая мысль «Путешествия в полуденную Россию» — мысль о необходимости синтеза «естественности» и «просвещения» во имя достижения «гражданского счастия» (Взгляд: 249). Несмотря на полемику с Руссо, в конечном счете, это было выражением основополагающего, матричного философского постулата руссоизма, мысли о соединении «преимуществ естественного и гражданского состояний», о возвышении человека до добродетели (Руссо: 62). Эту идею творчески развивал и интерпретировал Измайлов как писатель и мыслитель своей культурно-исторической эпохи.
В то же время самодостаточность его мировоззренческих установок проявлялась в отрицании еще одной социальноисторической концепции Руссо. Великий французский просветитель был убежденным сторонником того, что «приобщение к европейской цивилизации гибельно для России, которой следовало остаться самобытной» [Лотман, 1967: 233], что «преобразования Петра, противоречившие русскому национальному характеру, были тщетными и обреченными на неудачу» [Живов: 119]. Реформы Петра I, с точки зрения Руссо, были исторической ошибкой, потому что «реформа должна была состоять не в изменении национального уклада, а в восстановлении народного суверенитета, что для нации означает сделаться самой собою» [Лотман, 1967: 233]. Руссо «связывал идеи народного суверенитета и политических прав и свобод» [Занин: 26], его модель общества, интегрирующая такие ценности, как «добродетель», «свобода», «гражданское счастье» [Viroli: 37, 28–39, 14–18], в определенной мере учитывалась в практике социальных преобразований периода французской буржуазной революции [Гройсберг: 14]. Но Измайлов, когда с особой надеждой смотрел на «новую, чистейшую зарю, восходящую в Европе», имел в виду не радикальные формы реализации теории «народного суверенитета» Руссо, а «просвещение человеческого рода вообще», и народа России, в частности (Взгляд: 248).
Внутренне полемичной идее Руссо об отрицательном воздействии европейской цивилизации на национальный уклад народной жизни России, даже отрицанием этой идеи стала трактовка Измайловым в «Путешествии» перспектив синтеза этнокультурных традиций «кавказских народов» ( Ч. 4 : 20) и европейского просвещения в целях достижения общественного прогресса. Так, при описании «гражданского положения» ( Ч. 4 : 46) черкесов писатель отмечал, что наличествующему у этого «горного народа Кавказа» ( Ч. 4 : 23) народному суверенитету, начинавшемуся процессу приобщения к мировой культуре ни в какой мере не противоречат тенденции к сохранению национальной идентичности и тех форм жизни «естественного человека», которые не менялись в бытовом укладе этого народа на протяжении веков. Примечательно, что, по наблюдениям Измайлова, «гражданские учреждения» «черкесского народа» «близки к духу Ликурговой республики», в управлении которой большую роль играли народные собрания и совет старейшин ( Ч. 4 : 32). Описывая национальный уклад жизни черкесов, писатель показывал, что «политические феномены в их правлении» ( Ч. 4 : 29) в равной мере гарантируют потребности и права как общества, так и отдельного человека.
Уже в эпоху петровских реформ Северный Кавказ попал в зону геополитических интересов России. Примечательно, что в отличие от Руссо Измайлов не выступал с критикой петровских реформ по причине глубокой убежденности в непреходящем значении просвещения и приобщения к европейской культуре. Такую перспективу гражданского и этнокультурного развития «народа черкесского» (Ч. 4: 28) он наметил в своем «Путешествии». Основой развития является тот национально-общественный уклад, который формирует человека, «близкого к природе» (Ч. 1, 1800: 25); просвещение необходимо, чтобы человек стал еще и «гражданином», чтобы «благодетельный свет» науки и образования озарил путь «кавказских народов» к цивилизации (Ч. 4: 5, 27, 20). Оппозиция Руссо «человек» и «гражданин» в данном случае у Измайлова превращается в бинарное сопряжение этих категорий социокультурного прогресса.
Если иметь в виду, что в русском варианте руссоизма, начиная с «Философических предложений» (1768) Я. П. Козельского, стала набирать силу демократическая традиция, связанная с отчетливо обозначившейся ориентаций на идеи европейского Просвещения, то станет понятным, почему Измайловым актуализировались просветительские идеалы при изображении общественного быта «черкесского народа» (Ч. 4: 27–35). Для «чувствительного Философа» представляло несомненный интерес своеобразное «смешение аристократизма с демо-кратиею» (Ч. 4: 27), которое было свойственно системе правления у «народа черкесского». Вопросы национальной важности у черкесов решались всем народом, который собирался «для совета» (Ч. 4: 28): это было своеобразным проявлением народного суверенитета. Народ в случае недовольства «верховным правителем» или узденом мог свободно «переносить свое подданство» от одного к другому, что держало этих правителей «в некоторых пределах» (Ч. 4: 27–29). Таким образом, отдельные важные идеологемы руссоизма объективировались перед взором путешественника в их реальном воплощении при описании им общественного быта, нравов, «политических феноменов» (Ч. 4: 29) одного из не просвещенных, не приобщенных к наукам народов Северного Кавказа. Главное, на чем сосредоточено было внимание автора-повествователя как «чувствительного философа» — это «многие полезные учреждения» в общественной жизни адыгских народов, свойства и качества «добродетельного человека», живущего в гармонии с природой, то, что обеспечивало чувство личного достоинства у каждого члена общества, независимо от его имущественного и сословного положения (Ч. 4: 31). Верность человека своей «натуре» (Ч. 2: 32) рассматривалась им как условие и гарантия торжества «зари просвещения» (Ч. 4: 5), которая может осветить этот народ. Писателем утверждалась необходимость синтеза «счастья» и «приятной простоты», свойственных образу жизни народов Северного Кавказа, и достижений современной науки и культуры в Европе и России (Ч. 4: 20–21). Эту модель социального прогресса он переносил и на всех других «обитателей» не только России, но и Нового Света (Ч. 4: 27).
Что касается П. С. Палласа, то с его идеями пришла в противоречие основная установка писателя на обоснование необходимости просвещения и цивилизационного развития страны на основе руссоистской идеи «естественного человека». У этого ученого признание ценности просвещения, но далеко не для всех слоев общества, не соотносилось с представлениями Руссо, следовательно, и Измайлова, о том, что каждый «способен просвещаться» ( Ч. 2 : 127), чтобы иметь возможность «видеть ценные блага» ( Руссо : 196, 58). В ходе полемики с энциклопедически образованным натуралистом ярко проявилась ориентация автора «Путешествия в полуденную Россию» на просветительские концепции Руссо, и в этом случае писатель выступал единомышленником французского философа. Портрет Палласа-ученого воссоздавался Измайловым в полном соответствии с нормами «чувствительного века»: «никогда зло не приближалось к его сердцу», всё в его облике «повелевало уважение к добродетели», «в нем был виден человек» и т. д. ( Ч. 2 : 119, 120, 122). Как «добрый Философ» Паллас от «диких народов», которые «занимали, научали его», воспринял качества «естественного человека», благодаря чему «счастливое равновесие страстей принесло мирную ясность души его» ( Ч. 2 : 122, 119). Не случайно ученый после завершения экспедиций по Российской империи предпочел «знатнейшим столицам Европы» «тихий уголок Тавриды» ( Ч. 2 : 128), то есть жизнь на лоне природы. Хотя сам Паллас являл собою пример гармонии «натуры», «нравственного характера» и «плода мудрости» ( Ч. 2 : 125), основная оппозиция в руссоизме — «человек (естественное)» и «общество (противоестественное), представление о том, что «превращение человека — самодовлеющей отдельной единицы — в гражданина — часть политического тела — возможно, по мнению Руссо, лишь в "нормальном" и "правильном" государстве» [Лотман, 1967: 210, 236], трактовались им совсем не в духе Руссо. С одной стороны, Паллас полагал, что в социуме «пороки, сообщаясь ближе и ближе, портят нравы» ( Ч. 2 : 125–126).
С другой — был убежден, что «усовершенствование разума человеческого, общее просвещение и царство одной добродетели не может никогда последовать на земле», поскольку общество не может стоять «на одних подпорках чистого рассудка» (Ч. 2: 126). Если повествователь в «Путешествии» Измайлова поддерживал мнение о том, что «человек родится с даром чувствовать, мыслить и приобретать просвещение», то его оппонент, возражая против этого тезиса, ссылался на то, что «татары», например (так Паллас называл северокавказские народы), «со времени Геродота до наших дней ничего не приближились к просвещению и являют нам в себе тех же грубых скифов, которых описывал сей древний историк» (Ч. 2: 127). В своих «Путешествиях по разным провинциям Российской империи» Паллас писал о том, что не отважился посетить район высоких предгорий Кавказских гор: «…столь велика опасность от кочующих татар, а особливо в самой Маджарской стране»37. Если «в течение двух тысяч лет и в целом народе ход ума нимало не прибавился, то разум может заключаться в некоторых пределах», то есть не является «общим достоянием», — утверждал Паллас (Ч. 2: 126, 127). Это заключение великого ученого, изучавшего места проживания и «просвещенных», и «диких народов» (Ч. 2: 122), по сути, отрицало ту установку просветителей на гармонизацию качеств «естественного» и «просвещенного человека» в «правильном» государстве, которую всем своим сочинением стремился обосновать и аргументировать Измайлов. Но как писал он о Палласе в своем «Путешествии», «само его присутствие в Симферополе», этом «убежище чувствительного сердца», является предвестием «зари скорого просвещения» «дикого народа» крымского региона России (Ч. 2: 128, 133, 132). Писатель настаивал на том, что существует лишь одно средство преодоления общественных пороков «кровавой эпохи его времени» — это просвещение, открывающее не отдельному человеку, а всему человеческому сообществу путь к «истине», являющееся «основной подпорой нравственности» и «добродетели» (Ч. 2: 128). С просвещением он связывал и будущее крестьянской России (Ч. 1, 1800: 74), отдавая себе отчет в том, что это будет достижимо только в отдаленном будущем. «…Родятся люди, — писал он, — которые с выгодами здравой Философии, пользуясь одними благами общежития и удаляясь от бесчисленных зол его, представят на земле пример едва ли вероятный в веки наши» (Ч. 2: 64).
Просветительская концепция «естественного закона» имела давнюю философскую традицию, уходящую корнями в античную культуру, в учение ранних стоиков, Цицерона и других мыслителей древности. Идея «естественного закона» была актуальной и функциональной не только в эпоху Просвещения и не только в искусстве сентиментализма. О том, в какой мере она сохраняла свою значимость для художественной философии русских писателей XIX в., можно судить, например, по таким произведениям, как «Пунин и Бабурин» Тургенева или «Казаки» Толстого. В сочинениях Измайлова, как можно было убедиться, эта идея в духе руссоизма наполнялась не столько социальным, сколько этическим смыслом. Приближение человечества «к нравственному совершенству» ( Ч. 4 : 4) — это неизбежная и единственно верная, с точки зрения писателя, перспектива общественного развития. Как провозвестницу «добродетельного общества» ( Ч. 4 : 97), приближающегося к такому идеалу, Измайлов рассматривал Сарепту, немецкую Сарпинскую колонию, основанную в 1765 г. на правом берегу Волги в районе г. Царицына. Просвещенным колонистам удалось создать общину, распорядок жизни которой отвечал главным принципам Руссо — верности «природе» и велениям «доброго сердца». «Руссо заплакал бы здесь от радости», увидев, что черты Эмиля и других героев его сочинений воплощаются в жизни реальных людей, — писал Измайлов, непосредственно соотнося порядок Сарпинской колонии с идеалами женевского мыслителя ( Ч. 4 : 82, 91).
Творчество В. В. Измайлова показательно с точки зрения того, что руссоизм как философско-типологическое явление европейской культуры оказал очень большое воздействие на становление просветительской идеологии в России ХVIII в. Далеко не все русские писатели и общественные деятели были сторонниками идей Руссо и других мыслителей европейского Просвещения. Если автор «Эмиля, или О воспитании» был убежден, что «принцип справедливости и добродетели» является «врожденным» (Руссо: 282), то Фонвизин, например, просветительство которого основывалось на признании «законов природы» и «разума», считал в то же время, что зло в человеке заложено изначально, следовательно, к числу адептов руссоизма явно не относился, в большей мере сближаясь с идеями Вольтера. В полемическом диалоге с Руссо находился и сам Измайлов. Но в данном случае руссоизм необходимо рассматривать как самодостаточное, целостное явление культуры, и многие деятели, представляющие внепросветитель-ские тенденции в общественном сознании времени Измайлова, свои аргументации строили в системе «притяжений/ отталкиваний» с системой идей Руссо. Это характерно и для Измайлова. Примечательно то, что в разных текстах писателя не встречаются имена таких его современников, как А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев и др., которые были либо более ориентированными на рецепцию идей Вольтера, либо оппонентами многих идей руссоизма [Майданская, Май-данский: 195, 199–200]. У Фонвизина, например, об идее народного суверенитета «не могло быть и речи» [Златопольская: 15].
Как писал в свое время акад. П. Н. Сакулин, руссоизм «на русской почве давал свои идеологические рефлексы», а в художественной литературе «был связан со стилем сентиментализма» [Сакулин: 127]. Стиль В. В. Измайлова отличался особой избыточностью «чувствительности» и «меланхолии»: «пищу для чувствительного» и «предмет» восторга «для Философа» он находил не только в природе, но и в повседневной действительности (Ч. 4: 77). Хотя автор и подчеркивал, что «философская строгость» требует от него «исторической верности» (Ч. 4: 43), но система описания только с позиций «чувствительности» не могла дать такого результата. В основном все персонажи, изображаемые в «Путешествии» Измайлова, — это люди «близкие к природе», «добродетельные», которым доступны «наслаждения чувствительного сердца», которые стремятся, подобно «Руссовой Элоизе», «научиться благородству и нежности чувства» или «пользуются благодетельными советами Философии» (Ч. 1, 1800: 26, 25, 65, 18). Не случайно в реальных событиях повседневности писатель подмечал аналогии с героями сентиментальной литературы, например, с сюжетными коллизиями произведений Руссо или романа Гёте «Страдания юного Вертера» (Ч. 4: 22), (Ч. 2: 104, 112–117). Такое одностороннее восприятие реальности давало современникам писателя основание для суждений о том, что «книга» Измайлова «слаба в своих исторических воcпоминаниях», в самом ее «содержании»38. Всё это вызывало критику даже карамзинистов, отмечавших, с одной стороны, «хороший слог» писателя, а с другой, упрекавших его за «наполненность» произведений «романическими чувствами и модной тогда меланхолией», за их стилевую «строобразность»39.
Указывая на это, важно в то же время подчеркнуть, что характер рецепции идей руссоизма и полемика с ними в творчестве В. В. Измайлова со всей убедительностью показывают, какую важную роль играла философия европейского Просвещения в развитии русской литературы эпохи сентиментализма, насколько значимыми были идеи Руссо для формирования философско-эстетических принципов и аксиологической системы этого литературного направления, для исторической поэтики сентиментальной повести. Творческая индивидуальность Измайлова как писателя всецело определялась как усвоением учения о «естественном человеке», о «чувствительности» и «добродетели», так и тем диалогом с женевским мыслителем, проблематика и направленность которого определялась решением актуальных задач национально-исторического и социокультурного прогресса России, рассматриваемых с нравственноэстетических позиций этого писателя «чувствительного века».
Список литературы Идеи руссоизма в рецепции и творческой полемике сентименталиста В. В. Измайлова
- Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести. М.: Флинта; Наука, 2010. 280 с.
- Гройсберг А. И. Развитие теории суверенитета Ж.-Ж. Руссо в годы французской буржуазной революции // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. Вып. 1 (27). С. 8–17 [Электронный ресурс]. URL: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-27-2016?id=2136 (04.02.2023). DOI: 10.17072/1995-4190-2015-1-8-17
- Гудова М. Ю., Юань М. Концепт «культурный код»: уровни значения // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2022. № 4. С. 151–159 [Электронный ресурс]. URL: http://intellekt-izdanie.osu.ru/arhiv-zhurnala/soderzhanie-n4-2022/4-2022-pp.-151-159.html (04.02.2023). DOI: 10.25198/2077- 7175-2022-4-151
- Живов В. М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 3 (91). С. 114–140.
- Занин С. В. Общественный идеал Ж.-Ж. Руссо и французское Просвещение XVIII в. СПб.: Мiръ, 2007. 536 с.
- Златопольская А. А. Идеи «женевского гражданина» и Россия. Полтора века воздействия и осмысления (1752–1917) // Ж.-Ж. Руссо: pro et contra. Идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке русских мыслителей и исследователей (1752–1917). СПб.: Изд-во РХГА, 2005. С. 7–54.
- Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма: эстетические и художественные искания. СПб.: Наука, 1994. 282 с.
- Лотман Ю. М. Руссо и русская литература 18 века // Эпоха Просвещения: из истории международных связей русской литературы: сб. ст. Л.: Наука, 1967. С. 208–281.
- Лотман Ю. М. Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век: проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII — начало XIX в. Л.: Наука, 1981. Т. 13. С. 102–131.
- Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 338 с.
- Луков Вл. А. Руссо [Электронный ресурс]. URL: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/lukov-russo.htm (04.02.2023).
- Майданская И., Майданский М. Вольтер, Руссо и русские вольнодумцы // Свободная мысль. 2020. № 4. С. 194–203.
- Овчинникова Е. А., Златопольская А. А. Руссо и Вольтер в контексте религиозно-нравственных исканий русских мыслителей XVIII — начала XIX вв. // Религия и нравственность в секулярном мире: мат-лы науч. конф., 28–30 ноября 2001 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 175–183.
- Розанов М. Н. Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX в.: очерки по истории руссоизма на Западе и в России. М.: Тип. Имп. Моск. ун-та, 1910. Т. 1. 559 с.
- Сакулин П. Н. Русская литература: в 2 ч. М.: Изд-во Юрайт, 2019. Ч. 2: Вторая культурная эпоха (под знаком европеизма). 527 с. (Сер.: Антология мысли.)
- Шёнле Андреас. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб.: Академический проект, 2004. 271 с.
- Groethuysen Bernhard. J.-J. Rousseau. Paris: Gallimard, 1949. 338 p.
- Mornet Daniel. Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau au Bernardin de Saint-Pierre. Genѐve; Paris: Slatkine Reprints, 1980. 574 p.
- Vincenti Luc. J.-J. Rousseau, l’individu et la République. Paris: Kimé, 2001. 226 p.
- Viroli Maurizio. La théorie de la société bien ordonnée chez Jean-Jacques Rousseau. Berlin; New-York: Walter de Gruyter, 1988. 199 p.