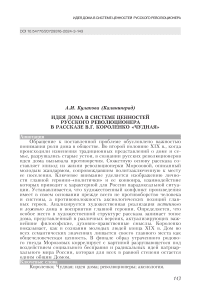Идея дома в системе ценностей русского революционера в рассказе В.Г. Короленко "Чудная"
Автор: Кулакова Л.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Обращение к поставленной проблеме обусловлено важностью понимания роли дома в обществе. Во второй половине XIX в., когда происходили изменения традиционных представлений о доме и семье, разрушались старые устои, в сознании русских революционеров идея дома вызывала противоречия. Сюжетную основу рассказа составляет эпизод из жизни революционерки Морозовой, описанный молодым жандармом, сопровождавшим политзаключенную к месту ее поселения. Ключевое внимание уделяется изображению личности главной героини-«политички» и ее конвоира, взаимодействие которых приводит к характерной для России парадоксальной ситуации. Устанавливается, что художественный конфликт произведения имеет в своем основании прежде всего не противоборство человека и системы, а противоположность аксиологических позиций главных героев. Анализируется художественная реализация истинного и ложного дома в восприятии главной героини. Определяется, что особое место в художественной структуре рассказа занимает топос дома, представленный в различных версиях, актуализирующих важнейшие философские, духовно-нравственные смыслы. Короленко показывает, как в сознании молодых людей конца XIX в. Дом во всех семантических значениях лишается своего главного места как общечеловеческая ценность. В финале образ утраченного родового гнезда Морозовых коррелирует с картиной разрушающегося под воздействием социального бесправия и радикальных идей патриархального мира России, которая для всех в равной степени остается одним общим Домом.
Короленко, чудная, идея дома, революционеры, аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/149146735
IDR: 149146735
Текст научной статьи Идея дома в системе ценностей русского революционера в рассказе В.Г. Короленко "Чудная"
Идея дома, образ дома присутствуют в той или иной мере во всей мировой и, в частности, в русской литературе. Невозможно не согласиться с утверждением А. А. Кораблева: «Не говоря уже о традиции русских народных сказок и литературных вариантах притчи о блудном сыне, <_> уход из Дома и Возвращение Домой предстанут чуть ли не поэтической формулой русской классической литературы. И даже более того — формулой любого полноценного литературного движения, осуществляющего свое единство в разнонаправленности философской мысли и духовных устремлений» [Кораблев 1991, 245]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля слово «дом» имеет следующие основные значения: 1) Строение для житья; 2) Семейство, семья, хозяева с домочадцами; 3) Род, поколение [Даль 1863, I, 105]. Последнее значение дает представление о доме как знаке определенной культуры, носителе традиций поколений. Дом в данной системе представляет собой родовое гнездо. По справедливому замечанию А.Н. Неминущего, «дом — это знак своего пространства, знак рода. Кроме того, дом может быть интерпретирован и как модель мироздания вообще, как некое универсальное разомкнутое пространство» [Неминущий 2001, 75]. Можно сказать, что образ дома реализуется на трех уровнях: семейном, социальном и вселенском, космическом. В художественных произведениях топос Дома может быть представлен в различных версиях, выражающих важнейшие философские, духовно-нравственные смыслы.
Идея дома испокон веков занимает важное место в системе ценностей русского человека. Вторая половина XIX в. — это время разрушения старых устоев, изменения традиционных представлений о доме и семье. В сознании русских революционеров идея дома вызывала противоречия, многие сталкивались с дилеммой: следовать революционным идеалам или сохранять традиционные ценности. Эта проблема продолжает оставаться актуальной и в современном восприятии роли дома в обществе.
Мятежный талант выдающегося русского писателя В.Г. Короленко наиболее ярко проявился в его сибирских рассказах. Известный своей правозащитной деятельностью, В.Г. Короленко в период сибирской ссылки создает образы революционеров, вступивших на путь борьбы за лучшее будущее для народа — часто сталкиваясь с жестокостью и несправедливостью властей, они продолжают свое нелегкое дело, вопреки всем трудностям. Его герои — не просто бунтовщики, это люди, готовые пожертвовать всем ради высокой идеи. Однако, несмотря на такую установку в изображении русского революционера, «наделенного высокими моральными, духовными качествами, романтически возвышенного» [Кулешов 1984], Короленко показал и внутренние противоречия этого сообщества: «Оказавшись в тюрьме или ссылке, они пытались осмыслить совершившееся, ожесточенно спорили о правильности или ошибочности избранных путей. Часть видела выход в революционном сектантстве, террористической деятельности» [Катаев 1987]. Подобный случай представлен в рассказе В.Г. Короленко «Чудная».
В последние годы рассказ «Чудная» был изучен исследователями с различных сторон: были рассмотрены образы-символы [Нурулла-ев, Лунгуль 2017, 129—131], художественное своеобразие композиции [Шарипов, Нуждина 2016, 53—57], нравственные антиномии русского революционера [Кулакова 2023, 8—12], тема человека и человечности [Сафиулина 2022, 297—304], проведен анализ разных редакций рассказа [Гущин, Сутягина 2013, 22—29]. Тем не менее многие аспекты до сих пор остались неизученными, к ним относится и рассмотрение идеи дома в системе ценностей русского революционера, ставшее целью данной статьи.
Центральной в рассказе «Чудная», как и во многих других произведениях Короленко, является тема свободы, отвоеванной в борьбе против социального гнета. Сюжетную основу рассказа составляет эпизод из жизни революционерки Морозовой, описанный молодым жандармом, сопровождавшим политзаключенную к месту ее поселения. Его история, поведанная другому ссыльному (выполняющему в произведении функцию повествователя), начинается с момента, когда героиня покидает пространство тюрьмы, а объектом изображения становится ее путь к последнему пристанищу. Встреча с революционеркой производит неизгладимое впечатление на молодого полицейского и оставляет в его памяти глубокий след: «За сердце взяло», — признается он [Короленко 1971, 85], «барышню сердитую забыть не мог... так и стоит, бывает, перед глазами» [Короленко 1971, 85].
Как справедливо отмечено Е.А. Макаровой, в сибирских рассказах В.Г. Короленко доминирует хронотоп дороги, а разомкнутое пространство Сибири противопоставлено «хронотопу тюрьмы, где замкнутое пространство с остановившимся временем окрашено в отрицательные эмоционально-ценностные тона» [Макарова 2007, 37—44]. Результатом пребывания в тяжелых условиях заключения становится тяжелая болезнь героини, которая, тем не менее, не желает оставаться в тюремной больнице, предпочитая умереть «на воле, у своих» [Короленко 1971, 75]. В сознании героини тюрьма имеет все признаки антидома , который, согласно Лотману, представляет собой «чужое, дьявольское пространство, место временной смерти» [Лотман 1997, 749]. Стремясь вырваться из него любой ценой, она отказывается от лечения в больнице и выбирает «хорошую смерть» [Короленко 1971, 80].
Долгая и тяжелая дорога к месту поселения состоит из нескольких этапов: героиню вначале везут в карете, затем по железной дороге и, наконец, в почтовой телеге. На протяжении всего пути этим закрытым топосам (которые являют собой некий инвариант тюремного помещения, где вместе с заключенной находятся конвоиры) противопоставлено открытое внешнее пространство, куда она устремляется всем своим существом: не отрываясь смотрит на дорогу из окна кареты, а в вагоне поезда, несмотря на холод, «окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит» [Короленко 1971, 73—74]. Впечатления от природы, открывающейся взору девушки, изменяют ее поведение: «Стала она спокойнее будто»; «Повеселела даже, глядит себе, улыбается» [Короленко 1971, 73—74]. Однако, положительно влияя на психологическое состояние героини, «злая погода» в то же время наносит непоправимый вред ее здоровью, что замечает и о чем беспокоится рассказчик.
Образ главной героини создается через восприятие конвоира Гаврилова, в душе которого девушка вызывает противоречивые чувства, ведь в ответ на его заботу она демонстрирует отчуждение и злость, удивляя его, а нередко и заставляя страдать: «Много я от нее... муки тогда принял» [Короленко 1971, 78].
Юный возраст и болезненный вид «политички» с самого начала вызывает сочувствие у рассказчика: «молодая еще, как есть ребенком мне показалась», «бледная совсем, белая во всю дорогу была», «сразу мне ее жалко стало.» [Короленко 1971, 73]. Однако первое впечатление позднее оказывается обманчивым: когда другой полицейский попытался ее обыскать, девушка проявила серьезную внутреннюю силу и характер, сумев защитить себя: «Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись. Как посмотрела на нас, — верите: оробел я и подступиться не смею» [Короленко 1971, 73]. Молодой полицейский поражен тем, какую стойкость проявляет слабая девушка в борьбе с жестокой системой, представители которой доступными им разными способами унижают ее человеческое достоинство.
В работе Е.В. Шутовой справедливо отмечается, что «мифы, мировой эпос и фольклор можно разделить на два типа — фольклор “Дома” и фольклор “Бездомья”, представляющие литературу достигнутой гармонии и литературу тоски по гармонии» [Шутова 2008, 121—124]. Как показывает Короленко, именно тоска по социальной гармонии обусловливает бездомье русских революционеров: причиной является не отсут- ствие дома как такового, под влиянием идеи родной дом становится для них чужим, и они сами обрекают себя на скитания, добровольно лишаясь благополучия и многих земных радостей. Такова и судьба героини этого рассказа, сложившаяся в результате ее собственного выбора. Однако художественный конфликт произведения имеет в своем основании, прежде всего, не противоборство человека и системы, а противоположность аксиологических позиций главных героев: «политички» и ее конвоира, взаимодействие которых приводит к характерной для России парадоксальной ситуации.
Революционерка готова отстаивать свои идеалы и заплатить своим здоровьем и даже жизнью за интересы того самого «варвара» и «холопа» [Короленко 1971, 73], который не в состоянии понять позицию своей защитницы. В то же время жандарм Гаврилов для заключенной — несомненный враг, поскольку является частью политического устройства, против которого она борется. Так обнаруживается внутреннее противоречие в позиции героини: отдавая свои силы в борьбе за права «холопов», она при этом испытывает и неприкрыто выказывает враждебные чувства к тем из них, кто выполняет функцию охранителей ненавистной ей системы. Кроме того, в своей непримиримости девушка игнорирует конкретного человека, интересы которого она в конечном счете отстаивает. В ее картине мира он является только частицей социального устройства, исполняющей определенную функцию, что нивелирует высокий смысл ее борьбы.
Со своей стороны, Гаврилов не чувствует себя исключительно частью системы, винтиком, обязанным действовать в соответствии с установленными правилами, он стремится поступать «по человечности». В то время как для полицейского человеческое отношение важнее социальных разногласий, в сознании революционерки вопрос взаимоотношений между идейными противниками остается принципиальным: «Враги так враги, и нечего тут антимонии разводить» [Короленко 1971, 82].
Поведение каждого из главных героев демонстрирует противоположность их жизненных позиций. Несмотря на отчуждение, презрение, злость и даже ненависть, которые нередко демонстрирует девушка, сочувствие не оставляет конвоира, и он на всем протяжении пути тревожится о ее здоровье, проявляет о ней заботу и внимание, допуская даже нарушение служебных обязанностей.
Как отметил в одной из своих работ Ю.М. Лотман, «всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее (“свое”) пространство и внешнее (“их”)», и «такое разбиение принадлежит к универсалиям» [Лотман 1996, 175]. В рассказе Короленко хорошо заметна оппозиция свой — чужой, причем топосы, традиционно представляющие родное пространство (дом и Отечество) для героини оказываются чужими, поскольку причастны к ненавистной ей социальной системе [Кулакова 2003, 9-10]. Этим объясняется ее уход из дома, расставание с матерью — единственным родным для нее человеком. Отечество в современном его виде также не воспринимается ею как родина, а атеизм определяет и отсутствие в ее сознании Дома Небесного. В свою очередь, своим для героини является любое пространство, в котором есть единомышленники — такие же, как и она, политзаключенные. Учитывая, что «именно через отношение героя к дому выявляется вектор направленности его духовных поисков» [Жилина 2009, 65-68], можно определенно сказать, что в сознании героини свое и чужое пространство определяются через призму революционной идеи.
Короленко показывает, что в своих предпочтениях героиня не одинока, между ссыльными революционерами существует прочная внутренняя связь, основанная на общей идее, которую они воспринимают как сакральную, в то же время распространяя ее и на бытовой уровень. Не будучи лично знакомы, они в трудных ситуациях оказывают друг другу всевозможную помощь и поддержку. Так, Гаврилова, как и городских обывателей не может не удивлять, что, добравшись до места своего поселения, барышня отправляется к незнакомому человеку, известному ей только заочно, по революционной деятельности, и остается у него жить.
Заинтересованный непонятной для него формой общения, Гаврилов идет «проведать» свою бывшую подопечную и видит те изменения, которые в ней произошли. В маленьком домике ссыльного Рязанцева революционерка преображается внешне: «на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагляделся бы» [Короленко 1971, 82]; меняется и ее голос: «слабый стал, тихий» [Короленко 1971, 82]. Этот топос для героини обладает чертами «истинного» Дома: место обитания, защищающее и укрывающее человека и включающее понятие «уют» [Степанов 1997, 694-698]. В обществе близкого ей по духу революционера Рязанцева героиня обретает прибежище, в котором находит успокоение.
Но и в этом локусе уюта и покоя между единомышленниками разгораются жестокие споры. Приверженность героини революционной идее приводит к полному отказу от прежних ценностей — отсюда и применяемый ею принцип разделения всех на врагов и соратников. Оспаривая эту мысль, Рязанцев объясняет: «Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы — этого-то вот и не признаете» [Короленко 1971, 83].
Отстаивая право оставаться человеком, даже находясь на позиции идейного противника, Рязанцев уверен в существовании общечеловеческих ценностей, в основе которых — чувства сострадания и милосердия. Именно поэтому он советует девушке простить полицейского, который не понимает ее взглядов и не имеет перед ней никакой личной вины. «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!» [Короленко 1971, 82] — отвечает героиня. Услышав ее отказ, он как бы в шутку называет ее «боярыней Морозовой» и «сектанткой» [Короленко 1971, 83]. В словаре В. Даля слово «секта» определяется как «раскол» [Даль 1866, IV, 505]. Революционная идеология героини, видимо, не случайно носящей фамилию одной из фанатичных деятельниц церковного раскола, противопоставлена духовному Дому как ценности объединяющей, которую исповедуют и люди с противоположными идейными позициями — как революционер Рязанцев и полицейский Гаврилов. Аргументы соратника не оказывают влияния на девушку, и идея прощения (основанная на христианской любви к ближнему, в том числе к врагу), вначале полностью отвергается ею. Но во время последней встречи с Гавриловым непримиримость революционерки несколько сглаживается: «посмотрела и на меня без гнева и руку подала. “Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю, — желаю вам когда-нибудь человеком стать — вполне, не по инструкции...”» [Короленко 1971, 83]. Протянутую конвоиру на прощанье руку и упоминание имени Божьего (хотя и в составе идиомы) можно рассматривать как косвенное проявление некоторых колебаний в ее душе.
Однако последующая вскоре смерть девушки резко меняет отношение Рязанцева, показывая, как трудно простить идейного врага, даже в случае его объективной невиновности — подойдя к ссыльному после похорон, Гаврилов увидел кардинальную перемену: «ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. “Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..”» [Короленко 1971, 84]. Но и в душе полицейского происходит своеобразный «раскол», о чем свидетельствует его признание: «С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый» [Короленко 1971, 84]. Да и сам повествователь долго не может уснуть после изложенной истории: «Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...» [Короленко 1971, 85]. Трагизм судьбы героини усиливается включением еще одного эпизода. В рассказе отсутствует описание родного дома героини, однако упоминание о нем появляется в конце: возвращаясь назад уже после смерти Морозовой, Гаврилов на постоялом дворе случайно встречает «чистенькую», «веселую» и «говорливую» старушку: продав дом, когда-то доставшийся ей «по наследству» [Короленко 1971, 84], она едет в далекую Сибирь поселиться со своей «голубкой». Мать юной революционерки еще не знает, что впереди ее ждет могила дочери.
По точному замечанию А.И. Разуваловой, в русском литературном сознании до революционных событий 1917 года дом — « ценность объединяющая , придающая целостность национальному бытию» [Разувалова 2004, 10]. После революции происходит разрушение всевозможных традиционных, в том числе семейно-родовых связей и начинается «строительство» общего дома — коммуны [Разувалова 2004, 10].
И хотя рассказ «Чудная» написан задолго до этих событий, эта тенденция наблюдается и здесь: юная революционерка покидает родной дом, отказываясь от многовековых традиций ее предков, полностью отвергая чужой и враждебный для нее старый мир и принимая идею так называемого нового дома — нового мира. Короленко показывает, как в сознании молодых людей конца XIX века Дом во всех семантических значениях лишается своего главного места как общечеловеческая ценность.
В финале произведения образ утраченного родового гнезда Морозовых коррелирует с картиной разрушающегося под воздействием социального бесправия и радикальных идей патриархального мира России, которая для всех в равной степени остается одним общим Домом.
Список литературы Идея дома в системе ценностей русского революционера в рассказе В.Г. Короленко "Чудная"
- Гущин Ю.Г., Сутягина А.Ю. Лингвистический анализ и сопоставление разновременных редакций рассказа В.Г. Короленко «Чудная» // Наука, просвещение, искусство провинции в социокультурном пространстве: Девятые Короленковские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 160-летнему юбилею В.Г. Короленко. Глазов: ГГПИ им. В.Г. Короленко, 2013. С. 22-29.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Изд. Общ-ва Любителей Российской Словесности, 1863. Т. 1. С. 1-157.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Изд. Общ-ва Любителей Российской Словесности, 1866. Т. 4. С. 466-629.
- Жилина Н.П. Идея Дома в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Вестник РГУ им. И. Канта. Сер. Филологические науки. 2009. № 8. С. 65-68.
- Катаев В.Б. Мгновения героизма // В.Г. Короленко. Избранное. М.: Просвещение, 1987. URL: http://az.lib.rU/k/korolenko_w_g/text_1080.shtml (дата обращения: 21.08.23).
- Кораблев А.А. Мотив «Дома» в творчестве М. Булгакова и традиции русской классической литературы // Классика и современность / под ред. П.А. Николаева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 245-251.
- Короленко В.Г. Чудная // Короленко В.Г. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Правда, 1971. Т. 1. С. 69-85.
- Кулакова А.И. Нравственные антиномии русского революционера в рассказе В.Г. Короленко «Чудная» // Теория и методика фундаментальных и прикладных научных исследований: сборник статей международной научной конференции. СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2023. С. 8-12.
- Кулешов Ф.И.: Мятежный талант // В.Г. Короленко. Избранное. Вышэй-шая школа. Минск, 1984. URL: http://az.lib.rU/k/korolenko_w_g/text_1070.shtml (дата обращения: 21.08.23).
- Лотман Ю.М. Дом в «Мастере и Маргарите» // Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958-1993). СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С. 748-755.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. Понятие границы // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 175-192.
- Макарова Е.А. Типология героя и «светоцветовое» видение мира в «Сибирских рассказах и очерках» В.Г. Короленко // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 294. С. 37-44.
- Неминущий А.Н. Архитектоника дома в прозе А.П. Чехова 1890-х гг. // Пространство и время в литературе и искусстве. Дом в европейской картине мира. Даугавпилс: ДПИ им. Я.Э. Калнберзиня, 2001. С. 70-75.
- Нуруллаев А.Д., Лунгуль А.А. Образы и их функции в рассказе В.Г. Короленко «Чудная» // Анализ современных тенденций развития науки. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 129-131.
- Разувалова А.И. Образ дома в русской прозе 1920-х годов: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Омск, 2004. 25 с.
- Сафиулина Е. Тема человека и человечности как объединяющее начало в «Сибирских очерках» В.Г. Короленко // Актуальная классика. Материалы Шестых студенческих научных чтений. М.: Литера, 2022. С. 297-304.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
- Шарипов В.А., Нуждина С.А. Художественное своеобразие композиции «Сибирских рассказов» В.Г. Короленко // Ученые записки Худжанского государственного университета им. акад. Б.Г. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. 2016. № 3(48). С. 53-57.
- Шутова Е.В. Архетипы «Дом» и «Бездомье» в мифологии, эпосе и фольклоре // Вестник Курганского государственного университета. 2008. № 4. С. 121-124.