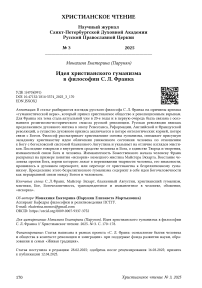Идея христианского гуманизма в философии С. Л. Франка
Автор: Монахиня Екатерина (Парунян)
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье разбираются взгляды русского философа С. Л. Франка на причины кризиса «гуманистической веры», который привел христианское общество к революционным взрывам. Для Франка эта тема стала актуальной уже в 20‑е годы и в первую очередь была связана с осознанием религиозноисторического смысла русской революции. Русская революция явилась продолжением духовного мятежа в эпоху Ренессанса, Реформации, Английской и Французской революций, а существо духовного кризиса заключается в потере онтологических корней, потере связи с Богом. Философ рассматривает христианские основы гуманизма, связывает присущую западному христианству идею обличения униженного состояния человека по отношению к Богу с богословской системой блаженного Августина и указывает на отличие взглядов мистиков. Последние говорили о внутреннем сродстве человека и Бога, о единстве Творца и творения, имманентной связи Бога и человека. Имманентность Божественного начала человеку Франк раскрывал на примере понятия «искорки» немецкого мистика Майстера Экхарта. Восстание человека против Бога, корни которого лежат в переживании тварности человека, его инаковости, проявилось в духовном перевороте, или переходе от христианства к безрелигиозному гуманизму. Преодоление этого безрелигиозного гуманизма содержит в себе идея Богочеловечности как неразрывной связи между Богом и человеком.
С. Л. Франк, Майстер Экхарт, блаженный Августин, христианский гуманизм, мистики, Бог, Богочеловечность, трансцендентное и имманентное в человеке, обожение, «искорка»
Короткий адрес: https://sciup.org/140312301
IDR: 140312301 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_170
Текст научной статьи Идея христианского гуманизма в философии С. Л. Франка
Семён Людвигович Франк (1877-1950) — выдающийся русский религиозный философ, известный читателю по таким трудам, как «Непостижимое», «Свет во тьме», «Реальность и человек». Начинавший свой философский путь в России, Семён Франк вынужден был после революционной смуты покинуть пределы Родины. Интерес к творчеству русского философа неуклонно растет, что связано, конечно же, с той проблематикой, которую поднимает Франк на страницах своих сочинений.
В своих работах С. Л. Франк говорит о глубокой связи, существующей между русской и немецкой культурами, между русским и немецким духом, и уточняет, что связь эта проявляется прежде всего в религиозно-мистической области. Более глубоко на русское мышление повлияла мистика, философская поэзия и метафизика. А русская религиозность ощущает свое родство «с философской сутью немецкого духа» (Франк, 1996a, 195). Франк также неоднократно обращает внимание на совпадение философии с умозрительной мистикой, на единство мистических озарений мистиков и философов начиная от Платона и заканчивая Баадером и Вл. Соловьёвым (см.: (Франк, 1990, 183)). Философия религии С. Л. Франка формировалась также под влиянием немецкой мысли (см. об этом: [Резвых, 2017a; Резвых, 2017б; Резвых, 2023]), в том числе и немецкой мистики. Глубокое родство обеих традиций основывается не в последнюю очередь на принадлежности к одной христианской культуре, влияние которой прослеживается в самых разных областях. Одна из идей, которая раскрывает эти взаимосвязь и влияние, это идея христианского гуманизма.
Кризис гуманизма
К проблеме кризиса гуманизма, или «гуманистической веры», Франк впервые обращается в 20-е гг. в статье «Религиозно-исторический смысл революции» (1924) и на страницах работы «Духовные основы общества» (1929). В это время философ жил в Германии, где у него была возможность работать в Русском институте в Берлине, действовавшем сначала как учебное заведение, но после финансового кризиса и оттока студентов переключившемся на публикации статей о России и ее духовной культуре на немецком языке (см. об этом: Франк, 2014, 139)). Уже с 1926 г. в новом формате работы институт организовывал лекции и доклады, под его эгидой стали выходить публикации о современной жизни и историческом развитии России. В связи с этим изменилась и проблематика работ русского философа. Во многом это связано не только с желанием осмыслить в контексте духовного развития произошедшую в стране революцию и последовавшую за ней национальную катастрофу, но и отреагировать на запрос немецкого общества, в том числе познакомить его с русской мыслью и культурой и ее достижениями (см. подр.: [Цыганков, Оболевич, 2019, 46; Гаврилов, Гавщук, 2021]).
Рассуждая о религиозно-историческом смысле русской революции, Франк пишет о фанатичной вере ее служителей, сутью которой было отрицание. При этом отрицалась не только религия, отрицались даже сословия и собственность, отрицались и моральноправовые нормы общества (см.: (Франк, 1996б, 124)). Единственным положительным идеалом, который Франк усматривает в русской революции, была «самочинная воля», отрицающая ценность личности (см.: (Франк, 1996б, 124)). В своей статье Франк отмечал такую проявившуюся в русской революции характерную черту, как враждебное отношение к духовной культуре и научному знанию параллельно с верой в техническую цивилизацию и рациональную организацию (см.: (Франк, 1996б, 125)).
Процессы, происходившие в России, по мысли философа, были естественным продолжением тех духовных процессов, которые начались в XIV в. с духовного мятежа Ренессанса, продолжились в Реформации, Английской и Французской революциях и привели к революционному социализму (см.: (Франк, 1996б, 122)). В этих процессах обозначилось «сплетение национального со сверхнациональным» (Франк, 1996б, 126). В статье «Религиозно-исторический смысл революции» (1924) Франк акцентирует внимание на духовных корнях восстания человечества, начавшегося в эпоху Ренессанса и характеризующего все последующие эпохи. Важная составляющая здесь — свобода, основанная на «самочинности человеческого духа» (Франк, 1996б, 127). Франк противопоставляет эту свободу господствующему в средневековом сознании идеалу теократии, насаждавшему авторитет, имевший Божественное происхождение, и подчинение ему человека. Подчинение авторитету должно было привести к установлению Царства Божия на земле, но оно игнорировало истину «о личной свободе как основном условии религиозно-осмысленной жизни» (Франк, 1996б, 127). В умалении свободы как проявлении любви виделось внутреннее противоречие теократии. Франк здесь лишь коротко отмечает связь свободы с истинным богосынов-ством, заостряя внимание на творческом человеческом духе, добывании им истины из «имманентного, внутреннего источника человеческой личности» (Франк, 1996б, 127). Философ указывает на произошедшие изменения, проявившиеся прежде всего в эпоху Реформации, которые были показателем того, что человек перестал ощущать «сверхличные онтологические корни», он упивался вольным общением с Богом, но не раскрывался через это общение, не мог питаться «живыми соками религиозной жизни» (Франк, 1996б, 128).
В годы написания «Духовных основ общества» проблема потери гуманистической веры виделась С. Л. Франку в контексте развития социальной философии, и на смену одной вере должна была прийти другая положительная вера, чего на тот момент времени не произошло. Франк писал, что современное ему общество оказалось в ситуации «безверия, скепсиса, духовной разочарованности и охлажденности», что люди не понимают, чему им служить, к чему стремиться и чему отдавать свои силы (Франк, 1992a, 17). Свойственная гуманистической вере убежденность в человеческой доброте и в возможности созидания самими людьми рая на земле, породившая социализм, в конце концов разбилась с его крушением. Крушение социализма стало поворотным пунктом в духовной жизни человечества. Вместе с тем, как отмечает Франк, особый «трагический характер» современному состоянию человечества придает и чреда политических и социальных кризисов, волнений и переворотов, обрушившихся на человечество после Первой мировой войны.
Если в опубликованной несколькими годами ранее статье Франк, описывая духовный кризис, рассуждает об отсутствии опоры на «сверхличные онтологические корни» и потере питания от «живых соков религиозной жизни», давая характеристику происходившим процессам через исторический контекст, то в «Духовных основах общества» он развивает тему глубинных онтологических оснований связи Бога с человеком и проявлений этой связи в общественном развитии. Франк отмечает, что общественное бытие является частью духовной жизни, которая не противостоит человеку, а присутствует «в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам раскрывающейся» реальностью (Франк, 1992a, 72-73). Франк ставит целью познать вечное существо общества и человека и через это обрести положительную веру.
Вновь к проблеме кризиса гуманизма Франк вернется уже в конце своего жизненного пути. Осмыслению этого феномена философ посвятит некоторые разделы своих книг «Свет во тьме» (1945) и «Реальность и человек» (1949). К этому времени семья Франков переживет тяжелые годы жизни в Германии, которую они покинут в 1937 г., завершится Вторая мировая война (см. подр.: [Цыганков, Оболевич, 2019, 85]). К этому времени в Париже уже будет опубликован перевод книги «Предмет знания», будет завершена и опубликована главная работа Франка — философия религии «Непостижимое» (1939).
В работе «Свет во тьме» (1945) Франк делает акцент на христианском происхождении гуманизма как веры в человека. Важно, по Франку, обратить внимание на причины, которые привели к появлению новой веры. Основанием для возникновения гуманизма является представление о сотворении человека по образу и подобию Бога, богосыновство человека. Но возникший гуманизм провозглашает величие человека, отказываясь от духовного основания. Происходит обмирщение понятия человека (Франк, 2011, 54).
Последствия этого обмирщения проявились в разных учениях, которые можно было бы объединить в категории «профанного гуманизма» и «антирелигиозного гуманизма» (Франк, 2011, 52–53). Под «профанным гуманизмом» Франк понимает веру, в которой происходит замена объективных, абсолютных ценностей «служением ценностям чисто субъективно-человеческим» (Франк, 2011, 62). Антирелигиозный гуманизм идет дальше. Он противопоставляет веру в человека «не только вере в Бога, но и вере в добро» (Франк, 2011, 53). В качестве примера С. Л. Франк указывает на марксизм, в котором гуманистическая идея разлагается в силу противоречия «между представлением о назначении и будущем человека и представлением о его подлинной природе» (Франк, 2011, 53).
Недоразумение блаженного Августина
Франк указывает причину, по которой произошла подмена веры. Зерно ее, по мнению философа, — в недоразумении, закравшемся в августиновское учение о человеке (см.: (Франк, 2011, 46)). Святость онтологической основы человека умалялась в нем и оттеснялась учением о ничтожестве человека вследствие грехопадения. Поэтому, как считает Франк, гуманизм и развился «в оппозиции к христианскому религиозному сознанию» (Франк, 2011, 127–128).
Эта идея получит более глубокое развитие в работе «Реальность и человек» (1949). Учение о ничтожестве человека, о его униженном состоянии перед лицом Бога, родоначальником которого был блж. Августин, в христианской культуре возникло не случайно. Оно было заложено еще в ветхозаветном понимании. В христианстве происходит усиление этого разрыва, даже несмотря на Богочеловека Иисуса Христа, в Котором человек «освобождается от своего ничтожества как бессильного тварно-го существа и обретает сам власть стать „чадом Божиим“» (Франк, 1997, 327). Идея «трансцендентности и инородности Бога человеку» (Франк, 1997, 328) вытесняет идею «единства трансцендентности и имманентности в отношении между Богом и человеком» (Франк, 1997, 328). В богословии Фомы Аквинского признается не только ценность творения, но и неизменность природы человека до грехопадения и после, склонность человека ко греху в силу его природной тварности. На этом основывается утверждение пребывания онтологического существа человека в его тварной природе и отрицание родства, имманентного присутствия Бога в человеке (см.: (Франк, 1997, 330); [Шпидлик, 2006, 42]).
В дальнейшем протестом против «ничтожества человека» стала гуманистическая культура и Реформация. Возник культ человека, который естественным образом привел к восстанию против Церкви, а в более глобальном масштабе — к восстанию против христианства и веры, к «пантеистическому обожествлению мира» (Франк, 1997, 333). Но христианство, как отмечает Франк, есть религия сродства Бога и человека, а не «поклонения Богу в Его противоположности человеку» (Франк, 1997, 332).
Франк отмечает, что в христианской философии, философии панентеистической, мир и человек оправдываются антиномически, «через двуединство Творца и творения» (Франк, 1997, 333), а в богоборческой философии происходит «пантеистическое обожествление мира» (Франк, 1997, 333) и возникает культ человекобога. Этот переход Франк называет духовным переворотом. В результате этого переворота назначение человека в антирелигиозном гуманизме мыслится в том, чтобы стать «верховным властителем мира» (Франк, 1997, 334). Но ценой того, что человек сам становится богом, становится утрата трансцендентной основы бытия, отказ от «нераздельно-неслиянного двуединства богочеловеческого существа» (Франк, 1997, 334), и замена его смесью Божественного и человеческого, которая пребывает в имманентном составе природного существа.
Разбирая эту проблему, Франк акцентирует внимание на антиномизме идеи бого-человечности. Богочеловечность указывает на связь Бога и человека, Божественного и человеческого начал. Рассуждая об этой связи, Франк задается вопросом о том, как ее помыслить. Прежде всего, двуединство человечности видится трансцендентальным и по логике предвосхищает понятия Бога и человека. Но философ видит ошибку в том, чтобы мыслить отношение между Богом и человеком внешним образом, при котором реальности не пересекаются, что приводит к утрате сознания богочеловечности, как и в приписывании человеку признака «божественности», в погружении его в имманентную сферу, что приводит к обожествлению человека. Первая ошибка, как отмечает Франк, наблюдается в августиновской концепции. Здесь человек — существо, отличное от Бога. Будучи сотворенным по образу и подобию, человек имеет некое «подобие изначальности» (Франк, 1997, 341), но из-за тварности, согласно блж. Августину, это подобие не реализуется, будучи «в известном смысле иллюзорным» (Франк, 1997, 341), свобода здесь не реальная, она мыслится как идеальная свобода духа.
Путь мистиков
Основное течение западной мысли пошло по пути умаления человека. Однако в христианстве существовало два направления, которые в характеристике трансцендентноимманентных отношений Бога и человека ориентировались не на трансцендентность и инородность, а на имманентность и родство. Сюда С. Л. Франк относит восточных отцов Церкви и мистиков. Первые, мысля Боговочеловечение как событие общеонтологическое, предполагали и «внутреннее сродство и связь между человеком и Богом» (Франк, 1997, 329). Вторые, известные Новейшему времени в лице Николая Кузанского и западноевропейских мистиков, видели оправдание мира и человека в нераздельном и неслиянном единстве Творца и творения, мыслили «исконное сродство» и «имманентную связь Бога и человека» (Франк, 1997, 328).
Имманентность Божественного начала человеческому духу Франк показывал на примере образа «искорки» немецкого мистика Мейстера Экхарта. Первое обращение Франка к этому образу можно датировать 1929 г. Философ говорит об «искорке» в статье «Личная жизнь и социальное строительство» как о потаенном внутреннем огоньке в душе человека, который «горит в глубине личности и образует самое ее существо» (Франк, 1933, 15–16). В работе «С нами Бог» (1941) Франк использует понятие «искорка», определяя его как луч, «исходящий от самого солнца духовного бытия» (Франк, 1992б, 254). В работе «Свет во тьме» (1945) экхартовское понятие «искорка», как идея имманентности Божественного начала человеческому духу, станет одной из основных идей, с опорой на которые Франк строит свою философскую систему. Об имманентности Божественного духу человека Франк, ссылаясь на Экхарта, говорит также в работе «Реальность и человек» (1949). Вновь для этого он использует экхартовское понятие «искорки» (Франк, 1997, 338). «Искорка» хорошо иллюстрирует свойственную мистическому пониманию двойственность: она является тем началом в человеческой душе, которое отличает человека от обыденного.
Если обратиться к трудам Майстера Экхарта, можно увидеть соотнесение понятия «искорки» с образом и подобием Божиим, заложенными в человеке Господом при его творении (см. об этом: [Шилов, 2014]). При этом у Экхарта нет четкого разграничения, что же он понимает под образом, что под подобием. Это то, что возносит и доставляет душу к Единому: «Подобие, рожденное от Единого, ведет душу к Богу, ибо Он есть Единое в Своем сокровенном единстве с Единым» (Экхарт, 2010a, 51). Это то, что есть в человеке разумное, что может быть названо интеллектом. По замечанию Экхарта, разум — это «храм Божий», и нигде Бог «не живет столь подлинным образом, как в Своем храме» (Экхарт, 2010б, 116). Вместе с тем поэтический язык мистика предлагает образы, которые лучше всего, по его представлению, могут охарактеризовать соотношение между образом и подобием и Самим Богом. К таковым относится образ зеркала (Экхарт, 2010б, 117), которое стоит напротив лица человека, и человек видит в нем свое отражение — свой образ. Стремление «искорки» к Богу и единство с ним Экхарт раскрывает в образах огня и дерева. «Сила солнца берет в корне дерева чистейшее и тончайшее, и все это тянет вверх до ветвей, и там это становится цветом», — пишет он (Экхарт, 2010б, 155). Это же действие описывается и в образе огня и древесины. Когда огонь зажигает дерево, как пишет Экхарт, искра принимает природу огня и «отождествляется с чистым огнем, а тот тотчас возносится к небу» (Экхарт, 2010a, 51).
Экхарт помещает «искорку» в душу человека, называя ее основанием души (см.: (Экхарт, 2010б, 144)), и наделяет эту силу трансцендентными свойствами. Поэтому «искорка» оставляет все на земле и стремится вернуться «к своему подлинному отцу». Поэтому через «искорку» душа «действует в небытии и [в этом] следует творящему в небытии Богу» (Экхарт, 2010б, 117).
Майстер Экхарт не ограничивается одним названием для этого глубинного естества в человеке, помимо «искорки» он использует понятия «свет», «сила», «прибежище духа», «крепостца», «разум», «синтересис» (см. подр.: [Реутин, 2011a, 105; Реутин, 2011b, 183-191]). Иногда он использует такое апофатическое определение, как «ни то и ни это, и вообще не что-либо». Это говорит о трансцендентности, о свободе от всех имен, «как свободен и чист Сам в Себе Бог» (Экхарт, 2010б, 92). Она едина и проста, как един и прост Бог. Вследствие этого, как нельзя определить Бога через понятие, так и душа неизреченна в своем основании (см.: (Экхарт, 2010б, 144)).
Наличие этой «искорки», или Божественной силы, в душе человека, трансцендентной его имманентному бытию, дает способность постигать Божественное. Разум «снимает с Бога одеяние блага» (Экхарт, 2010б, 117), под которым Экхарт понимает имена Божии. «Искорка» несет в себе образы творений (см.: (Экхарт, 2010б, 162)). В этой силе души, в «искорке», Бог встречается с человеком.
Франк, используя экхартовский образ «искорки», всецело идет за немецким мистиком в его понимании трансцендентного и имманентного в человеке.
Характерным признаком существа человека является отношение его к Богу, его связь с Богом. Франк пишет о том, что Бог, как первоисточник и центр реальности, пронизывает ее всю, что Бог «пронизывает и человека, излучается в него, присутствует в нем» (Франк, 1997, 321). Человек, по Франку, принадлежит двум мирам. Он есть и природное существо, и — через самобытие, которое мыслится как «реальность для себя сущая и себе самой открывающаяся» (Франк, 1997, 318), — принадлежит миру реальности, погружаясь корнями в глубину этого мира. В глубине духа человек имеет Бога как «имманентную основу своего собственного существа» (Франк, 1997, 348), и здесь философ исходит из понимания двойственности человека, одновременной его трансцендентности и имманентности.
Франк, говоря об образе и подобии Божием, подчеркивает отличие человека от природного мира. Человек обладает «первичными свойствами своего творца и первоисточника» (Франк, 1997, 260). В своем самосознании человек «испытывает себя как образ, проявление, обнаружение на земле сверхмирного начала» (Франк, 1997, 314). Об этом свидетельствует и внутренний опыт. Человек знает «ту полноту и первичность реальности, вне отношения к которой немыслим он сам как ее частное, производное, ограниченное и несовершенное обнаружение» (Франк, 1997, 314–315).
Для определения человечности в человеке Франк использует понятие «богочело-вечность». В этом понятии трансцендентность Бога совмещается с имманентностью человека, образует некое единство. Богочеловечность указывает на встречу с Богом в глубинах человеческой души. Встреча эта мыслится как «обнаружение моей исконной, неразрывной связи» (Франк, 1997, 322) с Богом. В богочеловечности «обладание Богом как трансцендентной инстанцией образует само имманентное существо человека» (Франк, 1997, 345). Обожение человека свидетельствует о родстве между Богом и человеком. Также Франк отмечает, что идею Бога можно «достигнуть на путях внутреннего опыта» (Франк, 1997, 304). Встреча с Богом не зависит от иных видов познания о существе объективной действительности.
Русский философ обращается к образу огня, образу, как он отмечает, «излюбленному многими мистиками», чтобы показать имманентность духовной жизни как трансцендентное, действующее «на нас в нас и через нас самих» (Франк, 1990, 410–411), чтобы показать присутствие и действие Бога в человеке (см.: (Франк, 1990, 498)).
Таким образом, учение об «искорке» указывает на глубинный слой человеческой души, который сливается с Богом и прорывается, как отмечает Франк, через тварность, признавая сверхтварное начало в человеческой душе. Это познание дано в мистическом опыте как понимание: то, «что образует существо моей личности именно как личности» (Франк, 1997, 355), человек испытывает как «нечто не-тварное» (Франк, 1997, 355).
Христианский гуманизм
Для того чтобы понять суть христианского гуманизма, следует обратиться к «положительной религиозной оценке человека как образа и чада Божия», как носителя «Божественного начала в тварном мире» (Франк, 1997, 333), что во всей совокупности имеет основание в христианской идее богочеловечности. Возвращаясь к учению о творении человека по образу и подобию, Франк указывает на присущее человеку внутреннее сродство с Богом, иными словами, «частичное онтологическое единство» (Франк, 1997, 326). И акцент здесь должен делаться не на инаковости образа, а на том, что его роднит с Первообразом. Христианство соединило ветхозаветное учение о сотворении по образу и подобию с античным пониманием близости Божественного начала человеческому существу, и античная мысль в лице платонизма восполнила мотив трансцендентности мотивом «достоинства человека как существа богоподобного и богосродного» (Франк, 1997, 328).
Человек является свободным самостоятельным существом, имеющим самостоятельное бытие не по причине своей отличности, отдельности от Бога, а по причине богосродности. Бытие человека не самозамкнуто, в нем выражается «первичная изначальность Бога» (Франк, 1997, 358), из Которого человек происходит, с Которым он связан в своей глубине (Франк, 1997, 358). В христианстве сохраняется равноправие трансцендентного и имманентного в отношении между Богом и человеком. Основой существа человека является Божественное начало, и к нему человек внутренне приобщается. Происходит обожение, но — из «напряженно-острого сознания его трансцендентности» (Франк, 1997, 327) существу человека. Обожение предполагает участие со стороны человека, при котором человек отрекается от эгоцентризма, переносит «центр бытия с природного существа на Бога» (Франк, 1997, 328).
Франк отмечает, что глубокое восприятие христианской идеи богочеловечности присутствует у Николая Кузанского, в мистике, но не получило развития в западной христианской традиции (см.: [Аляев, Резвых, 2018, 105]). По мнению русского философа, если бы эта идея была воспринята и получила развитие, то не возникло бы «разрыва между христианской верой и безрелигиозным гуманизмом», а духовная история западного христианского мира «пошла бы, быть может, по иному, более здоровому и гармоничному пути» (Франк, 1997, 333).
Развивая концепцию христианского гуманизма, Франк выводит возникновение безрелигиозного гуманизма из неправильного понимания неосознанного имманентного сродства и близости человека с Богом. Акцентирование внимания на тварности человека, его инаковости по отношению к Богу привело к возникновению движений, противостоящих христианству. Восстание человека против Бога стало сутью трагедии новой европейской истории, исказив изначальный замысел о богочеловечности. И преодоление этого восстания, преодоление безрелигиозного гуманизма находится также в идее богочеловечности, идее связи между Богом и человеком. Эта идея находится в основании самосознания человека как личности. Эта же идея дает возможность человеку увидеть в себе абсолютное начало.