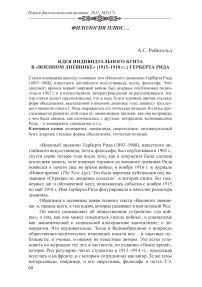Идея индивидуального бунта в «Военном дневнике» (1915-1918 гг.) Герберта Рида
Автор: Рейнгольд Антон Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Филология плюс…
Статья в выпуске: 2 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу основных тем «Военного дневника» Герберта Рида (1893-1968), известного английского искусствоведа, поэта, философа. Этот документ времен первой мировой войны был впервые опубликован полностью в 1962 г. и в отечественном литературоведении не рассматривался. Автор статьи делает предположение, что в идее бунта человека против стадных форм объединения, высказанной в военном дневнике «под занавес» трехлетнего окопного опыта Г. Рида, выражается его этическая позиция. В статье прослеживается развитие этой идеи по дневниковым записям: как она вызревала, с чем была связана, как соотносилась с другими вопросами, волновавшими Рида, - о демократии, социализме и т.д.
Демократия, пропаганда, сверхчеловек, индивидуальный бунт, анархия, стадные формы объединения, этическая позиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14914285
IDR: 14914285
Текст научной статьи Идея индивидуального бунта в «Военном дневнике» (1915-1918 гг.) Герберта Рида
«Военный дневник» Герберта Рида (1893–1968), известного английского искусствоведа, поэта, философа, был опубликован в 1962 г., спустя сорок четыре года после того, как в документе была сделана последняя запись; хотя впервые отрывок из военного дневника Рида появился в печати еще во время войны, в ноябре 1916 г. в журнале «Новое время» ( The New Age ). Это была короткая публикация под названием «Отрывки из дневника солдата»1, в которой сжато, без подневных дат и обозначений мест, описывались события с ноября 1915 по май 1916 г. Имя Герберта Рида фигурировало в качестве редактора дневника.
Обратимся к основным темам полного текста «Военного дневника» и, прежде всего, к тем идеям, которые развивает в нем молодой Рид.
Он много размышляет об общественном устройстве «до войны», о том, как оно может измениться «после войны»; о социализме как экономической и социальной альтернативе капитализму; о демократии. Что неудивительно. Тогда в Великобритании о вопросах общественно-политических изменений писали все – и опытные публицисты, и ученые, и никому не известные авторы. Это легко установить по журналам тех лет, в частности, по изданию «Новое время», которое Рид регулярно читал студентом в 1913–1914 гг., продолжая получать и на фронте, и с которым сотрудничал как автор. Те же темы интересовали, например, и его сверстника, философа и поэта Т.Э. 60
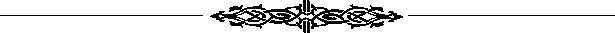
Хьюма (1883–1917). Период 1870–1900-х гг. был для Англии кризисным: наблюдался регресс в сельском хозяйстве, появились признаки стагнации в промышленности2. И все это на фоне усиливающейся демократизации общества: влияния трейд-юнионов, забастовок, создания лейбористской партии...
Судя по дневнику, в начале войны Рид идеалистически мечтал о демократии, а закончил войну убежденным индивидуалистом, который верит в индивидуальный бунт человека против любых массовых форм существования и идеологии.
Рид пишет о своих колебаниях, которые выражаются в попытке примирить всеобщий идеал демократии (счастье максимально большего количества людей) с отдельным человеком, обнаруживая, что в рассуждениях современников о демократии всеобщее спорит с частным, массовость вступает в противоречие с личным волеизъявлением человека, с его правом выбирать. Он замечает это противоречие и в самом себе: «в экономике я социалист, в этике же, пожалуй, индивидуалист»3 (70). Он разграничивает понятия этики и религии, христианства, причисляя себя к атеистам: «мы, атеисты...» – так говорит он о себе. Самооценка Рида в начале военных записок такова: он – атеист, мечтает об идеале всеобщего счастья, социального и материального равенства и справедливости в духе экономической теории начала ХХ в., при этом он индивидуалист, озабоченный идеей персонального совершенствования, – иначе говоря, атеист на перекрестье Маркса (которого в то время не читал) и Ницше. В записи от 28 января 1915 г. Рид говорит следующее: «думал, что, вероятно, материалистическое толкование истории Карла Маркса, развернутое в его “Капитале”, послужит дополнительным аргументом в пользу моей теории4, только у меня до сих пор не было времени прочитать Маркса. Из книг я больше всего обязан “Экономическим основам общества” профессора Лориа5, которая есть в университетской библиотеке6.
Я начинаю думать, что мой интерес к Ницше – больше поэтического свойства; но даже если это и так, он оказывает замечательное побудительное воздействие. Незадолго до отъезда сюда я пытался примирить его идею Сверхчеловека (Superman) с Демократией. Мне всегда казалось, что Демократии не хватает идеалов. Вот если только можно было прорисовать в ней (graft on to it) идею Сверх человечества (Superrace)» (70).
И далее в письме от 6 марта 1915 г. Рид развивает свою мысль об отрицательных сторонах демократии: «Похоже, меня не устраивает тенденция современной Демократии. Вроде прекрасный идеал в том смысле, что Демократия стремится к Всеобщему (Utilitarian) принципу величайшего счастья возможно большего числа людей; однако, она не предлагает никаких побудительных стимулов для развития лично- сти индивида. Счастье-то она обеспечит, а вот благородство цели – едва ли. Даже для духовного лидера (Superman) демократия окажется фатальной. Ясно, что ее главный постулат – это право человека выбирать. И именно это право, как мы сегодня видим, нарушается (Страховым Законодательством, например). Возможно, источник моего неудовлетворения в том, что, будучи коммунистом в экономических вопросах, в области этики я, скорей всего, – индивидуалист. Совместимы ли две эти веры?
То сверхчеловечество, о котором я мечтаю как о высшей цели демократии, – что могло бы стать его добродетелью? Боюсь, я не могу дать убедительного ответа на этот вопрос. Я даже не знаю, как толком определить значение “Добродетели”. Мы, атеисты, должны уйти от христианской оценки: быть спасенным или быть проклятым. Мы должны найти новый критерий – религию человеческого совершенствования. Мой личный идеал скорее эстетический, чем этический. Меня не увлекает мир святош. Но и ницшеанскому тирану я не поклоняюсь. Больше мне пока сказать нечего, за исключением того, что я не знаю более высокого выражения добродетели, чем то, которое имеется в заключительных строчках “Прометея” Шелли7, где упор сделан на Надежду и Решимость (Hope and Defiance)» (71).
Через три года в записях, сделанных в 1918 г. во время и после тяжелых боев, уже «тертый» Рид пишет определенно о своей «вере, рожденной опытом войны» («I… have faith, and faith born in the experience of war») (117). Одним своим краем его новая вера касается экономического развития: Рид связывает будущее экономики с международным социализмом как единственной альтернативой международному капитализму. Другой край его убеждений – это индивидуальный бунт человека против массовых форм существования и деятельности, которые ему, человеку, чужды. В записи от 26 февраля 1918 г. Рид пишет: «Я давно думаю о том, что в этой войне мы никогда не придем к военному разрешению конфликта....Не подтвержденный ничьей победой мир (an inconclusive peace) был бы во многих отношениях благом: он навсегда дискредитировал бы войну. Как только будет объявлен мир, единственная надежда – это Международный Социализм. Если ему не удастся создать новый мир (recreate the world), тогда Международный Капитализм реставрирует свой мир. Недавняя конференция8 показала, что у интернационализма есть еще порох в пороховницах. Так что nil desperandum» (117–118).
О другой стороне своей «новой веры» Рид пишет в заметке от 6 апреля 1918 г.: «Я не готов обсуждать перемену, происходящую в моих “политических” взглядах. Это бунт человека (the individual) против сообщества (the association), вовлекающего его в действия, которые ему не интересны: это прыжок к высшей анархии, которую я всегда
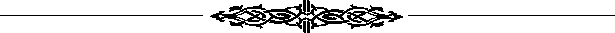
рассматривал как идеал для каждого, кто ценит красоту и накал жизни. “Прекрасная анархия” – вот мой призыв. Я ненавижу толпу – тех, кто воюет и убивает, строит мерзкие города и оглушает какофонией. И я прихожу к мысли, что спасать их и перевоспитывать – не мое дело: это дело каждого человека. Только так можно разрушить эти стадные объединения – клетку за клеткой, частицу за частицей» (124).
Военный дневник Г. Рида наводит на предположение, что его идея о бунте человека против стадных форм объединения – не эмоциональный возглас, а, скорее, выношенная за три года войны этическая позиция. Проследить развитие этой идеи по дневниковым записям, как она вызревала, с чем была связана, как соотносилась с другими вопросами, волновавшими Рида, – о демократии, социализме, – цель настоящей статьи.
Чуть не первое открытие, которое Рид сделал для себя в армии, касалось газетной пропаганды: рисуемые ею одухотворенные образы солдат – не имеют ничего общего с реальностью. Рид столкнулся с простым рабочим народом – забойщиками из Дарэма и Мидлсборо (северные районы Англии), и проснувшееся в нем чувство социальной справедливости подсказало ему, что в армейской табели о рангах – офицер versus солдат – он, Герберт Рид, скорее, Дон-Кихот. В первой же записи от 28 января 1915 г. он сообщает: «Здесь Ницше и все другие божественные еретики кажутся сном. Единственное оправдание здешней жизни состоит в том, что, благодаря ей, я встретился лицом к лицу с тем классом людей, которых я хотел узнать ближе. Это кондовые парни – большей частью шахтеры из Дарэма и Мидлсбро9. Совсем не то, что про них сочиняют в газетах. Ни на полпроцента не верю, что они здесь оказались по духовным соображениям. Постоянно ворчат, что кормят плохо, мало платят, и должен сказать, я им сочувствую. У них отвратительная кормежка. У большинства дома остались жены или матери, их надо поддерживать, а недельное жалованье у них тут – несчастные три шиллинга. И это мужчины, привыкшие за день зарабатывать по 10 шиллингов! Держат их тут в грязи. Так и до эпидемии недалеко – одна надежда на скорую отправку на фронт. Офицеры среднего состава относятся к ним высокомерно, с презрением. То, что на положении такого божка, которому воздают почести, оказался я сам, сильно смахивают на дон-кихотство...» (70–71).
Ты понимаешь, что именно так рассуждает сегодня средний англичанин? Скорей бы отсюда выбраться, любым способом. А пока я связан по рукам и ногам и вынужден слушать эту бредятину. Мне кажется, я схожу с ума, боюсь, не выдержу.
Я пытаюсь понять, как меня угораздило всерьез решить остаться в Армии – что за стечение обстоятельств, лести, обещаний легкой жизни, полной слепоты, незнания реальности заставили меня это сделать?» (145).
Об одном из своих стихотворений на военную тему («Kneeshaw», 1918) Рид говорит как о «протесте против всей той героической лжи, что написана о войне» (122).
Ненависть к немцам как к врагу Рид тоже рассматривал как элемент пропаганды, развернутой англичанами и французами: он с иронией подмечает в проповеди местного пастора-француза, которую ему довелось услышать в церкви, нотки умело разжигаемой в прихожанах ненависти к «гуннам»: «Служба шла своим чередом, и священник с чувством читал злободневную проповедь – сплошь про бедную малышку Бельгию и страшного Гунна» (104). В этом смысле самым ярким примером в дневнике противоположного отношения – «нашей общей человечности», в духе которой Рид воспринимал немцев, – служит эпизод с немецким «языком» в записи от 1 августа 1917 г.: «Я доставил пленного в штаб. Он немного говорил по-французски, так что по дороге мы с ним чуть-чуть поболтали. Он сказал мне свое имя, возраст, откуда он родом, и что он женат. Когда мы пришли в штаб, там был один офицер, знавший немецкий, и тогда пленный начал говорить еще охотнее. Мы дали ему выпить и сигарет. Выяснилось, что он школьный учитель, и вообще, очень умный парень. От него мы узнали достаточ- но полезной информации. Он был очень любознательный в целом. Он думает, что мы никогда не сможем выиграть эту войну, впрочем, как не смогут это сделать и они. Говорит, что новый министр, Микаэлис10, человек из народа, и что он постепенно сделает правительство более демократическим. Но Кайзер по-прежнему является народным героем, и нам не следует ожидать, что немецкая нация позволит свергнуть его ради заключения мира. Он говорит, что революция в Германии невозможна. Он не очень хорошего мнения о французах, зато почти восхищается англичанами. Говорит, что неверно думать, что немцы ненавидят англичан. Это была лишь пропаганда немецких военных и нашей собственной прессы. Говорит, мы принадлежим к одной расе, должны быть союзниками, а не врагами и т. д.
Он получил Железный Крест под Верденом, где взял в плен 85 французов.
Мы должны доставить его в бригаду, это час ходьбы. Было прекрасное раннее утро, все было мирным и слышалось пение жаворонков. На нашем ломаном французском мы поговорили с ним о музыке. Он играет на скрипке и на пианино, нам обоим нравятся Бетховен и Шопен. Он даже восхищается Ницше, и с этих пор мы с ним стали хорошими друзьями. Он написал свое имя и адрес в моей карманной записной книжке, и я пообещал навестить его, если когда-либо поеду в Германию. К тому времени, как я передал его в руки бригадного начальства, нам обоим было жалко расставаться. А ведь всего несколькими часами ранее мы изо всех сил старались убить друг друга. “C’est la guerre”, – что за проклятая ирония жизни… во всяком случае, это любопытное проявление нашей общей человечности» (101–102).
Позднее в книге «Образование ради мира» (Education for Peace) (1949) Рид скажет, что русские – такие же люди, как англичане. А это уже было смелым поступком – именно тогда набирала обороты пропагандистская компания холодной войны. Подобно тому как встреча с немцем-«языком» убедила двадцатилетнего Рида в том, что у них есть общие ценности (они оба читают Ницше, любят Бетховена и Шопена и отказываются верить пропаганде), – двадцать лет спустя в книге, написанной с позиций убежденного противника сталинского тоталитарного режима, Герберт Рид скажет, что русские – люди общей с англичанами культуры, нация Толстого, Достоевского, Кропоткина: «…наша способность понимать должна распространяться как на хорошее, так и на дурное в наших соседях, а у русских много хорошего. В обыкновенных людях, в их мирной деятельности, в том, как борются с суровым климатом, в их эмоциональном расположении друг к другу много добра. Есть много хорошего в тех организациях, что они создают для общественного блага, а не для самовосхваления. Наконец, самое главное: в их великом наследии национальной культуры, что доходит до нас поверх барьеров времени и пространства, языка и обычаев, сосредоточено добро. Наша общая связь с Россией – это художественные творения их великих писателей: Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова и Горького, точно так же, как русских с нами связывают художественные произведения наших великих писателей: Шекспира, Свифта, Байрона, Шелли, Диккенса и Уитмена. Такие же взаимные связи у нас есть в музыке и живописи, во всех видах искусства. Англичанин, погруженный в традицию русской литературы, не может испытывать к России ненависть: напротив, он может только любить ее всеми глубинами своего ума и сердца. Сам я как философ, исповедующий определенную философскую концепцию, гораздо больше обязан в этом смысле русским писателям (Достоевскому, Толстому, Кропоткину), нежели своим родным авторам. Точно так же, никто из русских, хотя бы немного сопереживающий красоте и глубине шекспировской поэзии, не станет питать ненависть к Англии, ибо Англия – это Шекспир»11.
Возвращаясь к военным дневникам, – по ним видно, как нарастает, от ранних записей к более поздним, неприятие Ридом войны и армейской жизни, в целом. Создается впечатление, что единственное, что держало Рида «в форме», это его товарищи, их маленькое боевое братство. А когда его лучший друг Кол (Колин) пропал (позже выяснилось, что он был взят в плен), то Рид не мог уже оставаться в пехоте; он сразу попросился в штаб, и, собственно, на том воинская служба Рида закончилась. Растущую неприязнь Рида к армии, переходящую в ненависть, вызывала его анархическая идея индивидуального бунта – человек не должен быть частью стадных сообществ, к которым у него не лежит душа.
А ведь на фронт Рид пошел убежденным добровольцем! Любопытен образ его мыслей. Он полагал, что война – это авантюра, приключение и пойти добровольцем на фронт – значит откреститься от настроений «ура-патриота». Лучше драться, чем отсиживаться в тылу крикливым патриотом. Наконец, он объяснял свой выбор стремлением приобрести боевой опыт на будущее, когда развернется борьба за социализм (последнее звучит, возможно, наивно и дико, но, тем не менее, объяснимо идеалистической верой двадцатилетнего Рида в том, что впереди его ждет борьба социализма с капитализмом). В записи от 9 мая 1917 г. Рид поясняет: «Честно признаться, меня угнетает то, что ты никак не понимаешь, почему я здесь – я думал, я тебе все четко
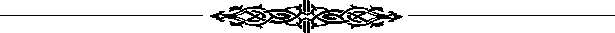
разъяснил. Я считаю, что мое место именно здесь. Если бы я был сейчас не в армии, то все во мне взывало бы к тому, чтобы стать частью этого большого приключения. Именно потому, что я считаю эту войну приключением, она и не становится для меня чем-то большим. Настанет день, и я буду сражаться за Социализм, и я буду лучше сражаться, потому что я уже буду “старым воякой”. Мое желание не быть ни красным, ни белым, ни синим патриотом заставляет меня “рычать”. Как такой человек, как я, может сражаться с добрым сердцем на такой войне, как эта? Я попытался об этом написать в незаконченном эссе, которое ты найдешь в конверте. У меня есть парочка друзей, и все они очень активно уклоняются от воинской службы по разным соображениям (кстати, один из них в тюрьме), они тоже не понимают, почему я так пекусь о том, что они считают “чуждой, не нашей, идеей”. Я всегда чувствовал , что я на правильном пути и теперь я пытаюсь высказаться» (92–93).
Вера, о которой вскользь говорит в конце письма от 10 января 1918 г. Рид и которую в последующих дневниковых заметках он развивает более определенно, – это индивидуализм, бунт одиночки: позиция, сложившаяся как ответ на ужасы войны, страдания, унижение и смерть: «Я видел человека нагим, а жизнь – драгоценной и одновременно жалкой» (123).
В своей книге «Образование ради мира», написанной после Второй мировой войны, Рид выстраивает логику возможных моделей поведения англичан в изменившемся послевоенном мире, поставленном перед лицом опасности атомной войны. Одну из этих моделей он связывает с позицией «неповиновения», пассивного сопротивления, или пацифизма. Он пишет: «Нам остается рассматривать одну позицию – ту или другую форму негативного или пассивного сопротивления – отказа повиноваться. Война – это договор или тайное соглашение всех его участников: мы описываем такой договор словами “единство в момент национальной угрозы”. Как частные лица мы можем отказаться участвовать в подобном договоре. Но те, кто уже попробовал эту политику, затуманивают свою цель, сваливая в одну кучу сразу несколько разных понятий: “пассивное сопротивление”, “ненасильственное сопротивление”, “неповиновение”, “непротивление злу”. Первые три означают физическое действие, сопровождаемое позитивной целью: забастовку (отказ работать ради получения материального удовлетворения), отказ явиться на призывной пункт или отказ повиноваться военному приказу. Такая позиция может иметь религиозные, философские или политические корни: в этих случаях она имеет практическую направленность и может повлечь за собой невооруженное фи- зическое сопротивление. Четвертое же понятие относится, на самом деле, к Восточно-христианскому мистицизму и описывает духовную позицию, сопровождающуюся отрицательной целью: зло нельзя побороть практическим действием, зато его можно одолеть определенной твердостью духа, или благодатью, которая позволит выстоять перед лицом зла, точно так же, как рука мученика выдерживает испытание огнем» (6).
«Я не предполагаю, – развивает мысль Рид, – входить в этические тонкости, отличающие эти формы действия одно от другого. Они ясно и последовательно изложены Толстым в его книге “Царство Божие внутри нас”. Такой этический подход по-прежнему сохраняет свою значимость, и людям с определенным складом ума он представляется естественным. Но в данный момент я озабочен необходимостью найти практические рациональные аргументы для выбора либо одной, либо другой позиции. Для каждой конкретной ситуации требуется определенный подход. Перед лицом агрессии мы, вероятнее всего, остановимся на политике несопротивления. Вопреки намерению нашего собственного Государства организовать действенное сопротивление такой агрессии, мы, скорей всего, займем позицию пассивного сопротивления» (7).
Дальше Рид развивает идею отказа от действенного сопротивления злу – иначе говоря, идею пассивного сопротивления войне как «реалистическую» позицию. Он находит для нее название – «образование ради мира» – и развертывает программу действий в третьей части своей монографии.
«Мир должен стать прагматическим проектом.
Я называю этот проект “образованием ради мира”....Война представляет собой реальную угрозу любым нашим планкам совершенствования человечества, и такой опасности я могу противопоставить лишь абсолютное отрицание войны. Но пассивное сопротивление войне – это не праздная и не безнадежная политика. Это позиция доступна всем, кто призван осуществлять военную политику. В этом смысле власть – власть как способность отрицать власть – есть власть абсолютная: единственная форма власти, которая на способна испортить тех, кто ею пользуется. В свое время Толстому представлялся необъяснимой загадкой тот факт, что никто к такой власти не прибегнул, и если бы не Ганди, вдохновленный идеями Толстого, мы бы до сих пор полагали этот путь неразрешимой задачей» (16–17).
«Пассивное сопротивление, – продолжает Рид, – нужно практиковать там, где милитаристская агрессия всего разнузданнее, – т.е. в России....Можно сомневаться в том, достаточно ли духовна молодежь
Европы и Америки для того, чтобы выработать mistique пассивного сопротивления. Это сомнение уравновешивается тем, что эта самая молодежь достаточно прозорлива, чтобы понять: пассивное сопротивление – это ее единственный шанс выжить. В любом случае, мы, поставившие мир буквально на грань небытия, можем рассчитывать только на то, чтобы доверить будущее тем, кому оно нужно для жизни, понимая, что если мы можем дрогнуть и пасть в любой момент, то их молодая крепкая психика инстинктивно выдержит, не сломается» (18).
О чем речь?
Даже в первом приближении к программе сопротивления войне, названной Ридом «образованием ради мира», выделяются две интересные подробности. Первая – возможным источником этой программы была заимствованная у Толстого мысль о крепости духа перед злом (см. трактат «Царство Божие внутри нас»12), чем, вероятно, и объясняется воспроизведенный Ридом в эпиграфе к его книге эпизод из воспоминаний Л.Н. Толстого «Яснополянская школа»13. Собственно, программа пассивного сопротивления войне, предложенная Ридом, состояла в поддержке и взращивании в каждом человеке инстинктивного творческого начала, которое следовало преобразовать, по мысли Рида (развивая поставленный Толстым вопрос о том, какая связь существует между насилием, злом, с одной стороны, и пением, «музыкой», с другой), в пассивное сопротивление насилию, злу, войне.
Вторая подробность связана с возможным развитием этой программной для Рида идеи в 1950-е гг. в молодежном движении 60-х, в революции цветов, в пассивном сопротивлении Истэблишменту. Получается, Рид – один из идейных предтеч бунтарских 1960-х? Чьи идеи были замешаны на книгах Толстого и на военном опыте первой мировой?
Уж не поэтому ли Рид молчал сорок лет, не публиковал свой военный дневник с признаниями в вере в анархию, индивидуальный бунт, что только в начале 60-х увидел возможность общественной поддержки своим идеям, которые впервые с дневниковой откровенностью были выражены в окопных записях 1915–1918 гг.?
Начать с чистого листа, дать человеку – человечеству – молодому человеку существовать без чувства вины... Возможно, это обеспечит миру более человечный путь развития, чем капитализм и отягощенная сознанием первородного греха мысль... Вот так – разумеется, упрощенно в рамках статьи – можно истолковать некоторые характерные записи в военном дневнике Рида, непростой смысл которых раскрывается в полной мере лишь с анализом последующих философско- эстетических произведений Рида, в связи с социальными движениями Запада в 50–60-е гг. прошлого века.
Список литературы Идея индивидуального бунта в «Военном дневнике» (1915-1918 гг.) Герберта Рида
- Extracts from a Soldier’s Diary/Ed. by H.E. Read//The New Age. 1916. Vol. 19. № 24. Oct. 12. P. 567. URL: http://dl.lib.brown.edu/mjp/render.php?id=1165363091171875&view=mjp_object (дата обращения 20.04.2011)
- Williams L.B. Modernism and the Ideology of History: Literature, Politics, and the Past. Cambridge, 2002. P. 56
- Read H. Introduction to The War Diary. Extracts from a Diary//Read H. The Contrary Experience. Autobiographies/Foreword by Graham Greene. New York: Horizon Press, 1973. P. 59-146
- Shelley P.B. Prometheus Unbound (1819)//The Complete Works of Percy Bysshe Shelley/Ed. with Textual Notes by Thomas Hutchinson. London; New York; Toronto, 1907. P. 264
- Шелли П.Б. Избранные произведения; Стихотворения; Поэмы; Драмы; Философские этюды. М., 1998. С. 564
- Read H. Education for Peace. New York: Scribner’s Sons, 1949. P. 12-13
- Tolstoy Leo. The Kingdom of God is Within You: in 2 vols. London, 1984
- Garnett Richard. Constance Garnett: A Heroic Life. London, 1991. P. 361
- Read H. Education for Peace. New York, 1949
- Указатель собственных имен и названий//Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 20 т. Т.15. М., 1964. С. 458-477