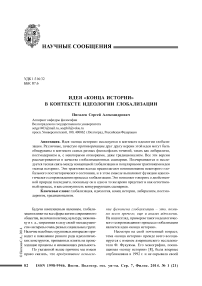Идея «конца истории» в контексте идеологии глобализации
Автор: Пигалев Сергей Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (21), 2014 года.
Бесплатный доступ
Идея «конца истории» исследуется в контексте идеологии глобализации. Различные, зачастую противоречащие друг другу версии этой идеи могут быть обнаружены в контексте самых разных философских течений, таких как либерализм, постмодернизм и, с некоторыми оговорками, даже традиционализм. Все эти версии рассматриваются в качестве глобализационных сценариев. Подчеркивается и исследуется тесная связь между концепцией глобализации и популярными трактовками идеи «конца истории». Эти трактовки всегда предполагают возникновение некоторого глобального постисторического состояния, и в этом смысле выполняют функции идеологического сопровождения процесса глобализации. Это позволяет говорить о двойственной природе последнего, поскольку он в одно и то же время предстает и как естественный процесс, и как совокупность конкурирующих сценариев.
Глобализация, идеология, конец истории, либерализм, постмодернизм, традиционализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14974944
IDR: 14974944 | УДК: 1:316:32
Текст научной статьи Идея «конца истории» в контексте идеологии глобализации
Будучи комплексным явлением, глобализация влияет на все сферы жизни современного общества, включая политику, культуру, экономику и т. д., затрагивая в силу своей «вездесущности» интересы очень разных социальных групп. Наличие подобных «групповых интересов» приводит к появлению разного рода идеологических конструктов, призванных влиять на происходящие процессы и искажающих реальность.
По указанной выше причине мы имеем право сказать, что продуктивное осмысле- ние феномена глобализации – это, помимо всего прочего, еще и анализ идеологии. На наш взгляд, примером такого идеологического «сопровождения» процесса глобализации является идея «конца истории».
Несмотря на свой почтенный возраст, тема «конца истории» прежде всего ассоциируется с именем американского исследователя Ф. Фукуямы. Его монография, посвященная «концу истории» [8], была впервые опубликована в 1992 г. и не скрывала своей идеологической ориентации. Основной идеей этой монографии, выход которой был приурочен к краху СССР, было утверждение о том, что либеральный проект (и капитализм как таковой) – это высшая точка экзистенциальной и идеологической эволюции человечества: «Мы не можем представить себе мир, отличный от нашего по существу и в то же время – лучше нашего» [8, с. 91]. В условиях «исторического фиаско» главного оппонента либерализма – советского социализма – есть основания говорить о наступлении «конца истории».
Всемирное торжество либерализма означает исчезновение истории как сферы, в которой возникают, взаимодействуют и развиваются так называемые «большие смыслы» , то есть макросоциальные проекты. Исторические проекты, претендующие на изменение социальной реальности как таковой, вытесняются социальной «инженерией», ликвидирующей ошибки при осуществлении либеральной демократии «на местах» и оптимизирующей уже существующие алгоритмы.
Рассуждая об истории, Фукуяма, по сути, выстраивал своеобразный глобализационный сценарий, оправдывающий один исторический проект (и образ будущего) и дискредитирующий все остальные: «Существует некоторая Универсальная История, ведущая в сторону либеральной демократии» [там же, с. 95].
Текст Фукуямы оказался своеобразным маркером, обозначившим крайне любопытный период в истории западной интеллектуальной традиции. Выяснилось, что, хотя термин «конец истории» и не всегда упоминается, сама идея истории при этом «раздражает» не только либералов, но и представителей других, зачастую враждебных либерализму течений.
Неприязнь Фукуямы к истории заключалась в том, что последняя понималась им как сфера смысла, то есть качества , противостоящего количественному принципу рыночной реальности. В частности, подчеркивалось, что требование «различать лучшее и худшее, добро и зло <…> видимым образом нарушает демократический принцип толерантности» [там же, с. 458].
Все дело, таким образом, в принуждающем и солидаризирующем характере «больших смыслов», которые препятствуют возник- новению открытого, то есть не имеющего четких границ и лишенного культурного своеобразия социума. Прекращение истории – это, таким образом, прекращение социокультурного насилия.
Казалось бы, нелиберальные версии «конца истории» опираются на другие принципы. Вот что пишет Кл. Фридрих, один из критиков концепции Фукуямы. Осуждая его универсалистский финализм за произвольность («Конец истории выступает как продукт има-гинации, как созданная самим человеком перспектива» [7]), он в то же время выражает симпатии по отношению к постмодернистским принципам. При этом подчеркивается, что «с их помощью можно идти в атаку на теологию телеологического и радикально противостоять последнему. Телеологическое понятие политического расчленяет реальность на высший и низший уровни и уполномочивает высший уровень на подавление и «воспитание» низшего» [там же].
В результате автор предлагает рассматривать социальную реальность не через призму телеологической «диктатуры», а как совокупность находящихся в перманентном неупорядоченном движении равноценных «сил», которые «не могут быть «приручены» никакими институтами» [там же].
Не так уж трудно заметить, что, отвергая подход Фукуямы, автор парадоксальным образом приходит к тому же самому результату : постулату о невозможности (читай: нежелательности) «больших смыслов», без которых история в указанном выше смысле невозможна. Выясняется, таким образом, что и фукуямовский абсолютный универсализм и плюрализм постмодернистского толка одинаково устраняют историю.
Дискурс о «конце истории», таким образом, отнюдь не ушел в прошлое вместе с фу-куямовской монографией, а продолжает существовать и развиваться в контексте более утонченных, поскольку нет таких прямолинейных, постмодернистских исследований. Зачастую об их «антиисторической» направленности можно понять лишь по некоторым, не особо бросающимся в глаза, но оттого не менее важным оговоркам.
Например, в работах Ж. Делеза и Ф. Гват-тари речь идет о критике капитализма и «фа- шизма». При этом, однако, авторы с симпатией описывают новый социальный тип – «шизофре-ника»-номада. Это существо, лишенное всех «привязок», национальных и иных, и неспособное переносить «ценности, морали, отечества, религии и частные достоверности» [3, с. 537]. Социальная реальность, следовательно, превращается в аморфную совокупность, находящихся в беспорядочном броуновском движении «кочевников», ускользающих от принуждающего воздействия властных структур.
Параллелизм со схемой, предложенной Кл. Фридрихом, очевиден. Вместе с тем, подчеркивается противоположность «кочевого» и исторического принципов: «Верно, что у кочевников нет истории, у них есть только география» [4, с. 664]. Более того: «История не перестает изгонять кочевников» [там же, с. 665].
Любопытно следующее: если глобализационный пафос Фукуямы, направленный против коллективистских (прежде всего – социалистических) моделей, основывался на сакральном для классического капитализма принципе индивидуализма, то постмодернизм с одинаковым усердием разрушает и то, и другое . В связи с этим постмодернистский негативизм, отвергающий все культурные и социальные «привязки», предстает как отражение тех метаморфоз, которые капитализм претерпевает в условиях возникновения, так называемого, постиндустриального общества с его информационными технологиями, сетевыми сообществами и т. п.
Эту систему можно с одинаковым успехом назвать как посткапитализмом, так и неокапитализмом. В ситуации, когда национальное государство ослабевает, капиталистический класс окончательно отрывается от всего остального социума, отбрасывая стесняющую его гуманистическую маску. В связи с этим некоторые исследователи полагают, что в эпоху постмодерна присущее капитализму отчуждение не снимается, а переходит на новый уровень (см., например: [6]). В частности, заслуживает внимания тот факт, что идея номадизма Делеза и Гваттари созвучна, например, рассуждениям неолиберала, глобалиста (и капиталиста) Ж. Аттали, который также пишет о новых кочевниках, в которых превратятся окончательно избавившиеся от национальных «оков» капиталисты [1].
Как бы то ни было, мы имеем, на наш взгляд, основания говорить о еще одном глобализационном сценарии, фундаментом которого является специфически постмодернистская, а потому неявная попытка завершить историю.
Представляется, что та же самая тенденция может быть обнаружена и в контексте такого своеобразного течения, как традиционализм. Восходя к исследованиям таких признанных авторов, как М. Элиаде, Р. Генон и Ю. Эвола (см., например: [2; 9; 10]), традиционализм имеет ярко выраженный антиисторический характер. История объявляется идеологической фикцией, изобретенной в рамках авраамических религий и являющейся источником всех бед западной цивилизации.
Современный социокультурный кризис Запада делает очевидной несостоятельность исторической иллюзии. История, таким образом, заканчивается (точнее, разоблачается): «Необходимо выступить в бой против самого мифа “Истории” с большой буквы» [9, с. 112]. На смену исторической динамике приходит константность воскрешенной «Примордиальной (Изначальной) Традиции», основной чертой которой является жесткая сословность, отдающая кастовостью.
Традиционализм одинаково не приемлет и приземленность либерализма и тотальный нигилизм постмодернизма, являясь в высшей степени «смыслоцентричным». Тем не менее, сама эта «смыслоцентричность» носит антиисторический характер, поскольку все смыслы и социальные нормы статичны, заданы раз и навсегда. Это, само собой, проблематизи-рует социальное развитие. Кроме того, в силу традиционалистского принципа непреодолимого онтологического неравенства людей, разделенных на «элиту» и «толпу» (см., например: [2, с. 70–81]), развитие становится чем-то как минимум необязательным, а как максимум – вредным.
В ситуации социального разрыва «большие смыслы», призванные интегрировать и мобилизовать общество, заменяются на «смыслы для толпы» и «смыслы для элиты», формируя удаленные и в принципе не обязанные пересекаться дискурсы. Любая модификация социальной реальности, осуществляе- мая «элитой», приобретает абсолютно закрытый, а потому зачастую манипулятивный характер.
Показательно, что предполагается, будто «Примордиальная Традиция», однажды забытая или искаженная, на уровне принципов имеет универсальный характер. В этом смысле данный традиционалистский концепт с одной стороны содержит ярко выраженный глобализационный пафос, а с другой – позволяет радикально переосмыслить, а зачастую и деконструировать реальную историческую память , заменив ее своеобразным «фэнтези», скроенным по постмодернистским лекалам.
Иначе говоря, традиционализм и постмодернизм гораздо ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. Оба, в конечном итоге, осуществляют определенную работу по деконструкции и последующей «модификации» национальных социокультурных целостностей, являясь, таким образом, элементом идеологии глобализации. Очень ценно в этой связи признание отечественного исследователя традиционалистского толка А.Г. Дугина, который подчеркивает, что «хаос “новых левых” (постмодернистов. – С. П. ) становится зародышем порядка “новых правых” (традиционалистов и консерваторов как таковых. – С. П. )» [5] .
Иными словами, в современной интеллектуальной сфере имеет место своеобразный «антиисторический» консенсус очень далеких во всем остальном течений и отдельных исследователей. Само слово «история», как мы видели, далеко не всегда произносится. Более того, в отдельных случаях антиисторический импульс – как отрицание «больших смыслов» – иногда сочетается с декларативным признанием ценности прогресса, технического развития и т. п.
Осуществленный выше анализ, несомненно, носит беглый характер и недостаточен для всестороннего понимания происходящих в настоящее время процессов. Тем не менее, в результате этого анализа стало понятно, что дискурс о «конце истории» – это дискурс идеологизированный, представляющий собой совокупность определенных глобализационных сценариев.
Ясно также, что реальное наступление «конца истории» зависит от того, в какой степени тот или иной сценарий сможет укрепиться в современной интеллектуальной атмосфере, либо вытеснив остальные, либо же слившись с ними.
Более того, есть основания предполагать, что глобализация – это не просто естественный процесс перехода к постиндустриальному (информационному и какому угодно еще) обществу. Напротив, глобализация проявляет себя как двойственный феномен, обладающий не только «естественными» характеристиками, но и включающий в себя специфический сценарный компонент. Остается открытым вопрос о необходимости (возможности) сценариев, альтернативных описанным. Этот вопрос должен быть решен в будущих исследованиях.
Список литературы Идея «конца истории» в контексте идеологии глобализации
- Аттали, Ж. На пороге нового тысячелетия/Ж. Аттали. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/122608/read. -Загл. с экрана.
- Генон, Р. Кризис современного мира/Р. Генон. -М.: Арктогея, 1991. -160 с.
- Делез, Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения/Ж. Делез, Ф. Гваттари. -Екатеринбург: У-Фактория, 2007. -672 с.
- Делез, Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения/Ж. Делез, Ф. Гваттари. -Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. -895 c.
- Дугин, А. Г. Постмодерн?/А. Г. Дугин. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=221. -Загл. с экрана.
- Неклесса, А. И. Неопознанная культура. Гностические корни постсовременности/А. И. Неклесса//Культура на рубеже XX-XXI веков: Глобализационные процессы. -СПб.: Нестор-История, 2009. -С. 188-243.
- Фридрих, Кл. О функциях одной мыслительной фигуры/Кл. Фридрих. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/vopros/45.html. -Загл. с экрана.
- Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек/Ф. Фукуяма. -М.: АСТ: Ермак, 2004. -588, [4] с.
- Эвола, Ю. Люди и руины/Ю. Эвола. -М.: МОО Русское стрелковое общество, 2002. -287 с.
- Элиаде, М. Космос и история/М. Элиаде. -М.: Прогресс, 1987. -312 с.