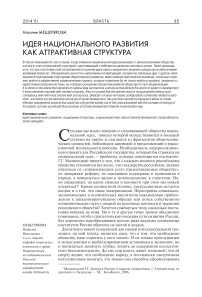Идея национального развития как аттрактивная структура
Автор: Мещерякова Наталия Николаевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье показывается, как в случае, когда элементы национальной идеи резонируют с умонастроениями общества, они могут стать аттрактивной структурой, притягивающей к себе вектор развития системы в целом. Также доказывается, что при отсутствии этой согласованности наличие даже самого искреннего желания и ресурсов не обеспечивает желаемый результат. Обнаружение ценностно-нормативных конфигураций, когерентно связанных друг с другом, являющихся аттрактивными структурами общественного развития, имеет важное практическое значение, поскольку позволяет выйти на эффективные управленческие проекты, которые позволили бы не только выйти из кризиса, связанного с нарастанием энтропии системы, но и придать ускорение процессам развития общества по пути модернизации.
Идея национального развития, социальные аттракторы, социосинергетика
Короткий адрес: https://sciup.org/170167188
IDR: 170167188
Текст научной статьи Идея национального развития как аттрактивная структура
С егодня мы много говорим о сплачивающей общество нацио-нальной идее, поиски которой осуществляются в большей степени на ощупь и слагаются из фрагментов общечелове -ческих ценностей, библейских заповедей и представлений о тради-ционной ментальности россиян. Необходимость модернизацион-ного проекта для Российского государства, который бы строился на национальной идее, — проблема, которая озвучивается постоянно. Г.Г. Малинецкий пишет о том, что с каждым месяцем российскому обществу становится все яснее, что государство российское должно отвлечься от «управленческих услуг, предоставляемых обществу», от лихорадки реформ, не находящих поддержки и понимания в народе, а повернуться лицом к целеполаганию, к стратегии. Но, он спрашивает, на какие смыслы и ценности при этом мы можем опереться?1 Кроме ценностной основы, дискуссионным остается вопрос и о том, что такое модернизация. Перестройка социально -экономических и политических институтов максимально прибли женно к западноевропейскому образцу или поиск собственного почвеннического пути с опорой на исконные ценности и традиции российского общества? Хочется улыбнуться тому, насколько поста -новка вопроса не нова. Но и ту и другую точку зрения объединяет понимание, что без стратегического видения пути развития России, без коренного преобразования целого ряда ведущих социальных институтов Россия обречена на застой и упадок.
Достаточно новой тенденцией для нашей интеллектуальной тра-диции, на мой взгляд, является идея, что о том, что необходимо обществу, надо спросить у него самого. И не только прислушаться к осмысленным и вербализированным установкам и желаниям, но и попытаться заглянуть глубже, вплоть до содержания коллектив -ного бессознательного. До сих пор власть живет иллюзией, что ей сверху видно, что необходимо народу, а мессиански настроенная интеллигенция полагает, что только она способна сформулировать за народ его идеалы и ценности. При этом К. Касьянова, которая в своей работе рассматривает социальные, этнические и архетипические стороны русского национального характера, пишет о «неприятии народом и государственной идеологии, и концепций, вырабатываемых интеллигенцией, поскольку и первая, и последние игнорируют обстоятельство первостепенной важности, обуславливающее восприятие народом любой идеологии или учения, – они не затрагивают иерархии ценностей (здесь и далее курсив автора. – Н.М.), скрытой в коллективных представлениях, связанных с “социальными архетипами”, а потому на них не отзываются нравственные чувства носителей этих архетипов»1.
К. Касьянова полагает, что в условиях «напора новых элементов», в динамично развивающейся ситуации сегодняшнего дня выработанных культурой механизмов саморегулирования недостаточно, необходимо вмешательство разума в этот процесс, т.е. сознательная разработка ценностнонормативного каркаса. Но, с точки зрения другого автора – В. Федотовой, нам как нации свойственна «социальная боязнь» всяческих идеологий, что является наследием нашего тоталитарного прошлого, и это делает нас неспособными к конструированию социальной реальности. Как мы видим, складывается порочный круг. Нам необходимы ценностно-нормативные основы жизни, чтобы в опоре на них ускорить созидательную деятельность нашего социума, но, во-первых, наше национальное сознание сопротивляется всякому морализаторству, видя за этим прикрытие интересов властных группировок, к такому сопротивлению его подталкивает весь социокультурный и исторический опыт. А во-вторых, опять-таки у нас нет социальных групп, авторитетных для общества, которые были бы проводниками такого идеала в жизнь.
В предлагаемой статье я не ставлю своей целью сформулировать собственное видение «национальной идеи». Моя задача скромнее – показать, что в случае, когда элементы национальной идеи резонируют с умонастроениями общества, они могут стать аттрактивной структурой, притягивающей к себе вектор развития системы в целом, и наоборот, доказать, что при отсутствии этой самой согласованности наличие даже самого искреннего желания и вложенных ресурсов не обеспечивает желаемого результата. Обнаружение ценностно-нормативных конфигураций, когерентно связанных друг с другом, являющихся аттрактивными структурами общественного развития, имеет важное практическое значение, поскольку позволяет выйти на эффективные управленческие проекты, которые позволили бы не только преодолеть кризис, связанный с нарастанием энтропии системы, но и придать ускорение процессам развития общества по пути модернизации.
В качестве методологической платформы данного исследования была выбрана социосинергетика, которая, постулируя определяющее влияние само-организационных процессов в развитии системы, допускает, что организационные усилия могут быть направлены на недопущение выхода в точку бифуркации. Это требует изменения управленческих стратегий поведения, правильно организованного резонансного воздействия на систему для обеспечения ее приспособления к изменяющимся внешним условиям и изменяющемуся внутреннему состоянию.
С точки зрения социосинергетики можно потратить огромные усилия и средства, создать что-то наподобие «морального кодекса строителя коммунизма» и потерпеть полное фиаско в силу полного непопадания в вектор развития самоор-ганизационных процессов, наличествующих в среде. Но, с другой стороны, малое резонансное воздействие, инициирование аттрактивности, предзаданной средой, может привести систему к когерентному взаимодействию всех элементов. Вопрос в том, как понять, на какие структуры общественного сознания следует оказать это резонансное воздействие. К каким идеям общество подготовлено и может вокруг них аккумулироваться, предоставив для созидания свою совокупную жизненную энергию? История знает прецеденты таких идей, и далеко не все из них были моральны, и не все кумиры, властители дум были интеллектуальной и моральной элитой своего общества (в этом ряду можно отметить феномены Гитлера и Сталина).
Начиная с работ М. Вебера, вопрос о роли «духа протестантизма» в складыва- нии западного капитализма был хорошо изучен. Конечно, можно говорить, что успешная экономическая деятельность представителей третьего сословия требовала своего «оправдания», легитимации в религиозной по духу культуре именно религиозными средствами. Эта насущная необходимость сопровождалась затяжным кризисом Римско- католической церкви, духовным и организационным, появлением различного рода религиозных течений «нового благочестия», в которых основной акцент делался не на внешних, обрядовых формах выражения религиозности, а на внутренних, индивидуальных устремлениях человека к Богу. В заключительном звене этой логической цепочки причинно-следственных связей появляется Мартин Лютер с его тезисом «оправдания верой», устанавливающим прямую связь между человеком и Богом без посредничества церковного клира, и, что еще важнее для «духа протестантизма», Жан Кальвин с его догматом «о предопределении», в котором успешная экономическая деятельность становится знаком богоизбранности. Так труд из наказания за первородный грех превращается в случае его выгодности, экономической успешности, сопровождаемой обогащением, в знак спасения души. Так были сняты культурные барьеры для предпринимательства и конкуренции – залогов капиталистического роста. Но в этой цепочке причинноследственных закономерностей есть один уязвимый момент. Замечательное наблюдение по этому поводу сделала В.Г. Федотова. Веберу отличия западного капитализма от незападного представлялись принципиальными, он настойчиво показывал «нормальность» (т.е. некую универсальность) незападного мира и уникальность западного1. Протестантизм как таковой не ставил перед собой мирских задач. Но нашлись социальные силы, в среде которых эти идеи резонировали с их практическими интересами и были использованы для приведения к согласию внутренней, духовной и внешней, практической жизни. Если рассматривать западный протестантский духовный опыт как уникальный, а не универсальный, то он становится флуктуацией, повлиявшей на режим функционирования системы.
Бердяев доказывал неотвратимость русского коммунизма. Он писал, что Ленин и его идеи более соответствовали русскому народному характеру и историческому моменту. «Русская душа не склонна к скептицизму, ей менее всего соответствует скептический либерализм. Народная душа легче всего могла перейти от целостной веры к другой целостной вере, к другой ортодоксии, охватывающей всю жизнь»2. Доказательство вполне в духе социоси-нергетических подходов. Идеи марксизма в большевистско-ленинской интерпретации резонировали в определенных социальных слоях общества, нижних слоях деревни, не справившихся со столыпинскими преобразованиями, в большей части пролетарских слоев города и даже среди части интеллигенции, ждавшей духовного обновления в горниле революционного огня. В этих идеях принципиально по иному позиционировались социальные статусы и роли представителей этих слоев: «из грязи в князи», из униженных – в хозяев своей страны, своей земли и всего, что на ней находится, так что идеи подкреплялись существенным материальным аспектом. Благодаря этому мощному резонансному взаимодействию большевикам удалось аккумулировать достаточный людской и материальный потенциал, чтобы справиться с гражданской войной и интервенцией и приступить к строительству социализма в отдельно взятой стране, чего классики марксизма в общем-то не предполагали.
«Майн кампф» Адольфа Гитлера – библия национал-социализма. Все, кто ее читал, признают, что она крикливая, напыщенная, изобилует длинно -тами, неясностями. Лион Фейхтвангер насчитал несколько тысяч грамматических ошибок в ее первом издании. Спрашивается, как она и ее автор, этакий гофмановский Крошка Цахес, буквально зомбировали миллионы немцев, приведя эту древнюю, с выдающимися культурными достижениями, с мощной интеллектуальной традицией нацию к одному из самых страшных преступлений в истории нашей цивилизации?
Понять это невозможно, если не учитывать национальные особенности нем цев и специ фику исторического момента.
О немцах, так же как и о русских, бытует множество стереотипных представлений, и, учитывая их живучесть во времени, они небезосновательны. Немцы стремятся упорядочить все и вся вокруг себя, они законопослушны, принципиальны и склонны к перфекционизму. И вот нацию с такими особенностями менталитета подвергают серьезному испытанию, ее делают персональным и, по сути, единственным виновником Первой мировой войны и заставляют расплачиваться за это по принципу: «проигравший платит за все». Об истинных причинах этого масштабного мирового конфликта писалось много, исследователи обнаруживают наличие противоречий между державами Антанты и Тройственного союза, региональные противоречия между Францией и Германией, Австро-Венгрией и Россией и др., выделяя из них наиболее актуальные на тот исторический момент. В любом случае подчеркивается, что война стала неизбежной, поскольку на тот момент считалась «продолжением политики, но только другими средствами». Но по Версальскому договору 1919 г. за эту коллективную ошибку расплачиваться заставили именно Германию. В ст. 231 мирного договора на нее была возложена историческая ответственность за развязывание войны. Кроме того, она понесла огромные территориальные потери, численность германской армии была ограничена 100 тыс. чел., отменена и запрещена к введению всеобщая воинская повинность, а также Германия была лишена права создавать военную авиацию, танковые части и подводный флот. Германский военно-морской флот подлежал ограничению, а Генеральный штаб и Военная академия распускались. Репарации были столь велики, что окончательно долги по ним, по информации газеты The Daily Mail, были погашены только в 2010 г.1 Но самым болезненным для немцев, и в этом сходятся все исследователи вопроса, был факт признания их единственными виновниками войны. Оскорбленное национальное самолюбие стало источником реваншистских настроений. И вот выходит работа Адольфа Гитлера, в которой он провозглашает расовое превосход- ство арийской нации и ее грядущую роль предводителя человечества. Кроме того, он объясняет поражение в Первой мировой войне расовыми причинами, снимая ответственность и, соответственно, чувство вины с истинных арийцев. Он предлагает построить национальный государственный капитализм, ориентированный на самообеспечение и освобождение от иностранного капитала, т.е. от тех, кто «обидел» немцев Версальским договором, с конфискацией состояний, нажитых на военных поставках в годы войны, т.е. состояний тех, кто разделяет ответственность за этот национальный позор. Принципиальность проявлена, порядок установлен, чувство перфекционизма удовлетворено, и, перефразируя Гете, немцы опять усложнили все себе и другим.
Идеи, которые способны аккумули -ровать жизненную силу нации, к сожалению, не обязаны быть моральными, гуманными или прогрессивными в традиционном понимании, но они обязаны быть аттрактивной структурой, соответствующей самоорганизационным процессам социума. Впрочем, как показывает все тот же исторический опыт, идеи неморальные и негуманные приводят ситуацию в тупик, а систему к – переструктурированию. Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» охарактеризовал К. Маркса как замечательного социолога, но плохого психолога и антрополога. В марксизме содержится блестящий социологический анализ процесса дегуманизации человека при капитализме, обличается капитализм за обобществление человеческой жизни, за дегуманизацию. Но (коренная двусмысленность!) первая попытка построения коммунистического общества на основах марксизма обернулась дегуманизацией человеческой жизни так же, как при капиталистическом строе, который критиковал Маркс. Человек рассматривался здесь как функция экономики, кирпичик для строительства нового общества, общество – первофе-номен, человек – эпифеномен. Не время сосредоточивается в человеке, но человек лишь песчинка в потоке времени и даже средство формирования этого потока.
Итак, идея обладает свойством аттрак-тивности, т.е. притягательности для траектории развития системы. Это ярко проявляется на примере религиозных идей. В основании любой религии лежит вера в чудо, в то, что не поддается логи -ческому анализу, опровергает, сметает на своем пути все законы и причинно следственные связи. Но если многочис-ленные адепты данной религиозной идеи верят в возможность чуда, оно может и произойти. Проблема в том, что у идеи, для того чтобы она реализовала свои аттрактивные свойства, должна быть социальная структура как ее носитель. Это может быть религиозная секта, как в про тестантстве, революционно настроенная толпа или иная локальная зона повышен -ной социальной упорядоченности. Идею надо «посадить на почву». Социальный аттрактор — это именно зона локали -зации социальных элементов в среде, а определенные идеи, цели, ценности и нормы являются ее негэнтропийным потенциалом, укрепляющим и поддер -живающим самоорганизационный поря док в аттрактивной структуре. Отсюда делаем гипотетический вывод: для того чтобы сформулировать задачу, оказать резонансное влияние на «модель мира» россиян и тем самым сплотить обще ство, придать динамизм его развитию, во первых, необходимо сформулировать комплекс идей, создать «модернизаци онный проект», обладающий негэнтро пийным потенциалом, органичным для среды, т.е. особенностей национального характера, места и времени. А во - вторых, необходима социальная группа, которая посадит эти идеи на почву, т.е. сама вну три будет когерентно связана с комплек сом этих идей.
Простой пример: пока социальная общность, именуемая самым общим словом «власть», призывает к правовому поведению россиян, будучи внутри не спаянной с этой идеей, о чем свидетель ствуют коррупция и произвол, она не сможет «притянуть» к ней траекторию развития системы. И наоборот, чисто гипотетически, если бы власть принудила к исполнению норм аппарат чиновниче ства и силовые ведомства с очевидностью для общества, а не только на словах, это могло бы стать аттрактивной структурой, притянувшей к себе процессы самоорга низации на микроуровне, т.е. в поведении отдельных личностей. Причем «гипоте тически» относится не к определению потенциальной привлекательности идеи, а к способности власти это сделать.