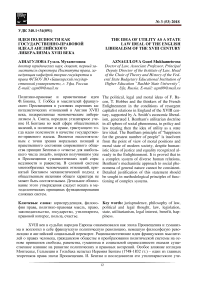Идея полезности как государственно-правовой идеал английского либерализма XVIII века
Автор: Азнагулова Гузель Мухаметовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 (53), 2018 года.
Бесплатный доступ
Политико-правовые и нравственные идеи Ф. Бэкона, Т. Гоббса и мыслителей французского Просвещения в условиях окрепших капиталистических отношений в Англии XVIII века, подкрепленные экономическим либерализмом А. Смита, породили утилитарное учение И. Бентама во всей сфере общественных явлений, в политике и праве, трактующего тогда идею полезности в качестве государственно-правового идеала. Является несостоятельным с точки зрения моральных позиций и нравственного состояния современного общества принцип Бентама о «счастье для наибольшего числа людей», вопреки получившим уже в Просвещении гуманистических идей справедливости и равенства. В сложной системе многообразных человеческих отношений, принятый Бентамом механистический подход к общественным явлениям общего характера не может быть состоятельным. Детальное обоснование этого утверждения следует искать в методологических принципах функционирования сложных систем.
Юриспруденция, философия права, политико-правовая мысль, право, законодательство, государство, утилитаризм, правовой интерес, польза, счастье
Короткий адрес: https://sciup.org/142232829
IDR: 142232829 | УДК: 340.1+34(091)
Текст научной статьи Идея полезности как государственно-правовой идеал английского либерализма XVIII века
XVIII век в судьбах народов Европы ознаменовался как эпоха Просвещения и гуманизма и воплотил в себе французскую политическую революцию, немецкую философскую революцию и английский социальный переворот. Рационалистические идеи французских мыслителей о правах человека, гражданском обществе и преобразовании политической системы на основе принципов свободы, равенства, гуманизма и социальной справедливости оказали существенное влияние на развитие политических и правовых воззрений. Особое влияние взглядов Монтескье, Гельвеция и Гольбаха испытал Иеремия Бентам (1748-1832 гг.) – один из главных теоретиков права эпохи Просвещения. И. Бентам и последователи его утилитаристского уче- ния, основывали свои взгляды в условиях, когда Англия уже стала ведущей капиталистической державой. Если в теории английского экономического либерализма центральное место принадлежит учению Адама Смита (1723-1799 гг.) и Давида Риккардо – основоположников английской классической политэкономии [1, с. 33]1, выдвинувших, в частности, концепцию «экономического человека», поступки которого в условиях рыночных отношений определяются его личными и корыстными интересами, то в политическом либерализме здесь – Иеремия Бентам. Они сводили интересы общества к совокупности частных интересов людей [2, с. 343]2.
Творческое наследие И. Бентама охватывает широкий круг проблем правовой науки: теории права, отраслей частного права, международного права, объединенные в целостную философско-правовую концепцию на основе так называемого «принципа пользы», изложенного, в основном, в его трудах «Введение в основание нравственности и законодательства. Основные начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса». (1789 г. СПб – 1867 г.); «Деонтология, или Наука о морали» (1834 г.). Самое прямое откровенное свойство человеческой природы и общий закон этой природы, управляющий всей человеческой деятельностью, Бентам видит в стремлении человека к самосохранению, личной пользе, наслаждению и личному счастью; эта деятельность совершается под влиянием двух начал: чувства удовольствия и чувства страдания. Он пишет: «Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять и указывать, что мы должны делать» [3, с. 1].
Принцип, лежащий в основании этого «верховного властителя», управляющего действиями людей и правительств, Бентам назвал принципом пользы, который впоследствии им был трансформирован в принцип величайшего возможного счастья и благоденствия или альтернативно – принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Под этим принципом Бентам понимал то общее начало, которое одобряет или осуждает «какое-бы то ни было действие, смотря по тому, имеет ли оно … стремление увеличить или уменьшить счастье той стороны, об интересах которой идет дело, или, говоря то же самое другими словами, – содействовать или препятствовать этому счастью» [3, с. 2]. Говоря «какое бы то ни было действие», он подразумевает, что этот принцип руководит как действиями индивида, так и жизнью целого общества, является основанием и критерием нравственности, права и политики, охватывает также всю совокупность общественных явлений. Термин «польза» по Бентаму есть то свойство предмета, благодаря которому он представляет благо, имеет стремление приносить удовольствие, выгоду и счастье, или предупреждать страдания и несчастье стороны, об интересах которой идет речь. Под «стороной» подразумевается как отдельный человек, так и целое общество. Счастье же не есть недостижимая цель, а благо, доступное всем тем, кто своим разумным старанием стремиться достичь того, что подсказывает ему природа .
Реальными, по Бентаму, являются лишь частные интересы, а общественные интересы сводятся к совокупности личных интересов. «Напрасно толковать об интересе общества, – писал он, – не понимая, что такое интерес отдельного лица» [3, с. 3]. Интерес общества есть «сумма интересов отдельных членов, составляющих его» [3, с. 3]. Поэтому на этой почве делается заключение о том, что счастье отдельного лица содействует счастью других, увеличивая общее счастье. Через термин «счастье» трактуются и нравственные категории. Истинная добродетель состоит, – считает он, – во-первых, в личном благоразумии – стремлении к личному счастью; во-вторых, – в деятельном благожелании – содействии счастью других. Личное благоразумие предполагает способность человека отдавать предпочтение большому, но отдаленному удовольствию перед ближайшим, но меньшим удовольствием. Деятельное бла-гожелание – это умение жертвовать личными интересами ради более важных интересов других, реализация которых увеличивает общую сумму счастья. Поэтому в общем счастье усматривается единственный и высший критерий нравственности. Отсюда вытекает, что любое действие будь отдельного человека или правительства, можно назвать сообразным с принципом пользы «когда его стремление увеличить счастье общества больше, чем стремление уменьшить его» [3, с. 3].

Подчиняя право и политику, иные общественные явления началу пользы, Бентам указывает на необходимость, как он говорит, – санкций , принуждающих людей на практике поступать «правильно»; их он делит на два вида: санкцию естественную (физическую), возникающую помимо воли человека, и санкцию искусственную, которую делит на нравственную, политическую (легальную) и религиозную санкции. Постановка вопроса о регулировании отношений с помощью закона, разумеется, не нова. Все дело, – говорит Бентам, – с формальных позиций сводится к распределению, с одной стороны, прав, а с другой стороны – обязанностей ; в этом деле законодатель должен иметь в ввиду одну цель – наибольшее счастье общества. Это счастье в той мере, в какой оно зависит от законодателя, включает частные цели – достаток, богатство, равенство, спокойствие. Распространяя действие этого принципа на отрасли права, прежде всего, гражданского и уголовного права, Бентам высказывает свою точку зрения на главный обсуждаемый вопрос философии права о критериях и границах права. Ответ на первую часть поставленного вопроса для Бентама логически вытекал из развитого им учения о началах нравственности и законодательства и давался конкретно: допускается в той или иной формулировке единственный критерий в смысле пользы, что по существу его содержания сводится к частным интересам людей, совокупность которых и есть интерес общества. Рассматривая сложный вопрос о пределах правовой регламентации деятельности человека – вопроса, где имели место взаимоисключающие крайние точки зрения, Бентам, проявляя осторожность, не указывает какие-либо конкретные и фиксированные границы сферы законодательства, касается только отдельных направлений этой деятельности, лишь в той мере, в какой ее требует принцип пользы.
Утилитаристские идеи Бентама вытекали из общих тенденций развития общества в Англии, присущего ей меркантилизма [4, с. 545], подкрепленного учением А. Смита. Одно из многообразных человеческих чувств – удовольствие – конституировано основанием общего счастья всех членов общества. Это положение является сомнительным, ибо «наслаждение является чисто отрицательным, поскольку оно направлено на абсолютную единичность индивидуума и тем самым на уничтожение объективного и всеобщего » [5, с. 280] (курсив мой. – Г.А.). Несостоятельным с точки моральных позиций и нравственного состояния современного общества предстает и принцип Бентама о «счастье для наибольшего числа людей», где не только не дан никакой ответ, но и нет постановки самого вопроса о «счастье» меньшинства людей в обществе, вопреки получившим уже тогда в Просвещении гуманистических идей равенства, справедливости и благ для всех как основ государственного политического, экономического и нравственного порядка. Иная формулировка всеобъемлющих оснований, как это выдвинул Бентам, состоит в его утилитарном принципе пользы (иногда называемого принципом полезности) – той пользы, которая у него, по сути, есть частный корыстный интерес к обогащению, – возводит частный интерес метафизическим путем искусственных построений в основу общего интереса общества. Однако, в сложной системе многообразных человеческих отношений, принятый Бентамом механистический подход к общественным явлениям общего характера не может быть состоятельным. Детальное обоснование этого утверждения следует искать в методологических основах (принципах) функционирования сложных систем [6], согласно которым в так называемых открытых системах, каковым является и система нравственности общества, имеет место сложное когерентное взаимодействие части и целого , а в нашем случае, частного и общего , ибо общее представляет собой характерную целостность для конкретного общества.
Практическое воплощение принципа пользы в ущерб идей свободы и справедливости, искусственно положенного в основание законодательства гражданского и уголовного права, – хотя отдельные идеи Бентама здесь не потеряли своего значения и сегодня, – служат теоретическим обоснованием проявления отрицательных качеств человека: алчности, корыстолюбия и других подобных качеств, которые ведут к человеческим трагедиям, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из истории, способствуют часто противозаконному накоплению богатства в частных руках. Принцип пользы, выдвинутый изначально Гельвецием и Гольбахом, и возведенный Бентамом до уровня абсолюта, стал предметом анализа в марксизме. Критике теории полезности уделено значительное внимание в «Немецкой идеологии»
К. Маркса и Ф. Энгельса. Ссылаясь на работу Гегеля «Феноменологию», они считают, что принцип полезности пройденным этапом прошлого столетия, последним результатом Просвещения. «Представляющееся совершенно нелепым, – пишут они, – сведение всех многообразных человеческих взаимоотношений к единственному отношению полезности – это по видимости метафизическая абстракция проистекает из того, что в современном буржуазном обществе все отношения практически подчинены только одному абстрактному денежноторгашескому отношению» [7, с. 409].
В свете этих авторитетных рассуждений напрашивается логичный вывод о том, что в системе человеческих отношений, где все подчинено корыстному интересу, особенно в капиталистической форме хозяйства, когда человек служит средством силой производства благ, материальных в первую очередь, а отношения между ними снимаются как товарно-денежные отношения, и деньги как таковые приобретают господство над человеком, нравственность человека, видоизменяемая материальной основой его бытия, не только исключает, но и предполагает возможность получения благ за счет труда других. Подобное имело место всегда в истории человечества, в том числе в уходящем перед натиском капитализма феодального строя, где за счет лишь того, что преобладал физический труд земледельцев, животноводов, мелких ремесленников, возможности частного обогащения за счет труда других людей были сильно ограничены. Но с развитием науки и знаний, созданием на их основе машин и механизмов в середине XVIII века человечество получило невиданные ранее перспективы общественного производства, а вместе с тем – новые технологии получения благ отдельными людьми, их группами за счет других; название этому явлению дала история – это эксплуатация человека человеком.
В целом, моральные рассуждения Бентама стали отражением позиций укрепившейся английской буржуазии. Теория полезности, ростки которой были заложены в трудах Гельвеция и Гольбаха, у Бентама приобрели черты полноты. Охватывающая сферы гражданского и уголовного законодательства и дополненная экономическим содержанием в духе А. Смита, эта теория в соотношении естественного права и закона значительно опередила позитивистское учение в праве, возникшее в середине XIX века. В этом деле немалую роль сыграл английский философ и государственный деятель Джон Стюарт Милль (1806–1873 гг.), внесший своими трудами «Принципы политической экономии» (1848 г.), «О свободе» (1859 г.), «Размышления о представительном правлении» (1861 г.) заметный вклад в развитие либеральнодемократической мысли.
Будучи яростным сторонником бентамовского учения в начальный период своей деятельности, он впервые использовал понятие «утилитаризм», подверг критике и уточнению многих положений Бентама об основаниях нравственности. Милль утверждал, что нельзя основывать нравственность человека целиком на принципе полезности, поскольку, согласно ему, удовлетворение частных экономических интересов не ведет напрямую к всеобщему благу. Принцип достижения личного счастья, полагал он, должен с необходимостью базироваться на идее согласования интересов – как интересов отдельных людей, а также и общезначимых социальных интересов. На основе этих рассуждений он приходит к выводу о том, что защита собственности и интересов человека, рост благосостояния народа, воспитание положительных социальных установок в людях должны быть главными целями хорошо функционирующей государственной власти. Он понимает необходимость общепризнанных функций государства, но осуждает стремление бюрократии присвоить себе неограниченную власть. Как нам представляется, он осознает естественное свойство чиновничества к самопроизводству, непреодолимую им самим тягу к могуществу, на пути достижения чего устраняются – как во времена греческих Триумвиратов Цезаря и Антония, Трибунатов в Древнем Риме – неугодные политические группы и порабощается право, которому, прежде всего, должна подчиняться сама власть.
Выше власти во все времена стоит право, – говорил Цицерон, – и ни волей сената, ни волей народа оно не может быть отменено: «Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей… Сколь-нибудь ограничивать его действие не дозволено; отменить его полностью невозможно, и мы ни постановлением
сената, ни постановлением народа освободиться от этого закона не можем…» [8, с. 64]. Отсюда и идея о необходимости ограничения власти государства.
Границы властных полномочий и необходимых действий государства всегда неоднозначны и спорны, ибо власть функционирует в чрезвычайно обширном, многофакторном пространстве; выделение ее приоритетов и границ действий может выйти за пределы осознанных общезначимых интересов. Милль конкретно их не поясняет, а ограничивается замечанием: «общепризнанные функции государственной власти простираются далеко за пределы любых ограничительных барьеров, и функциям этим вряд ли можно найти некое единое обоснование и оправдание, помимо соображений практической целесообразности. Нельзя также отыскать какое-то единое правило для ограничения сферы вмешательства правительства, за исключением простого, но расплывчатого положения о том, что вмешательство это следует допускать при наличии особо веских соображений практической целесообразности» [9, с. 655]. Во второй части этого утверждения имеет место подмена субъекта предикатом, возвращающая проблему в логический круг и оставляющая вопрос открытым.
Как мы полагаем, подлинное ограничение государственной власти может быть основано на сформировавшихся и осознанных коллективных и общих интересах, глубоком научном познании самих государственных интересов и разумной самостоятельности правовой системы общества и тесного взаимодействия политики и права.
Список литературы Идея полезности как государственно-правовой идеал английского либерализма XVIII века
- Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма: В.И. Ленин. Избр. произведения. В 3 т. Т.1. Три источника и три составных части марксизма. М.: Изд. полит. лит., 1976.
- Гельвеций К.А. Об уме. Соч. в 2-х т. Т.1. М.: Мысль, 1974.
- Бентам, Иеремия. Изб. соч. Том 1. Введение в основание нравственности и законодательства. Основные начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса / пер. по англ. изд. Боуринга и франц. Дюмона А.Н. Цепина и А.Н. Неведомского; предисл. Ю.Г. Жуковского. С.-Петербург.: изд. Русской книжной торговли, 1807. LXII.
- Энгельс Ф. Наброски к критике политической экономии / К. Маркс и Ф. Энгельс Соч. Изд. второе. Т. 1. М.: Гос. изд. полит. лит., 1955.
- Гегель Г.В.Ф. Система нравственности / В кн. Гегель Политические произведения / ред. коллег. Д.А. Керимов; отв. ред. Л.С. Мамут, В.Ц. Нерсесянц. М.: Наука, 1978. С. 276-367.
- Азнагулова Г.М. Понятийно-категориальный и структурно-функциональный состав правовой системы России (теоретико-методологическое исследование): автореф. дис. … д-ра наук. М., 2015.
- EDN: ZPQAUX
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. Изд. второе. Т. 3. М.: Гос. изд. полит. лит., 1955.
- Цицерон О государстве / В кн. Цицерон Диалоги / пер. В.О. Горштейна; отв. ред. С.Л. Утченко. М.: Наука, 1966. С. 7-86.
- История политических и правовых учений / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2007.