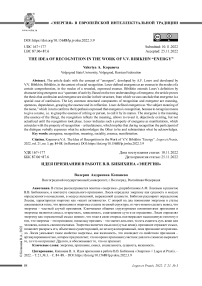Идея признания в работе В.В. Бибихина «Энергия»
Автор: Копанева Валерия Андреевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие «энергема», разработанное А.Ф. Лосевым и развитое В.В. Бибихиным, в контексте социального признания. Лосев определял энергему как сущность в модусе определенного осмысления, в модусе явленной, выраженной сущности. Бибихин расширяет определение Лосева, характеризуя энергему как «квант активности». С опорой на два понимания энергемы в статье доказывается тезис, что признание и энергема сходны по своей структуре, из чего можно сделать вывод, что энергема - частный случай признания. Ключевыми общими структурными компонентами признания и энергемы являются смысл, открытость, зависимость, схватывание сути и ее отражение. Лосев определял энергему как «предметный смысл имени», что тоже в свою очередь подтверждает высказанную гипотезу о том, что энергема - это признание, поскольку признать - это значит дать имя, то есть схватить суть вещи или человека, назвать своими именами. Энергема является смыслом (сутью вещи), признание отражает смысл, позволяет раскрыть его, объективно существующий, но не актуализированный, пока признание не произошло. Лосев указывает такое свойство энергемы, как явленность, что совпадает со свойством признания - артикулированностью, которое предполагает, что во время признания участник диалога словесно выражает то, за что он признает Другого, и обосновывает то, что он признает.
Энергема, признание, смысл, социальность, сущность, явленность
Короткий адрес: https://sciup.org/149141532
IDR: 149141532 | УДК: 167+177 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.3.9
Текст научной статьи Идея признания в работе В.В. Бибихина «Энергия»
DOI:
Цитирование. Копанева В. А. Идея признания в работе В.В. Бибихина «Энергия» // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 3. – С. 84–88. – DOI:
Социальное пространство знает множество практик имитации признания; особенно ярко они выражены в виртуальной реальности социальных сетей, где стало в порядке вещей, что пользователи «накручивают» лайки, комментарии, репосты, отзывы, пользуясь услугами других участников тех же сетей или прибегая к механическим способам вроде бот-программ по искусственному повышению рейтинга. Изобретательность тех, кто находится в поисках признания, не ведает границ и порождает множество способов, позволяющих повысить различные индексы признанности практически без посторонней помощи. Однако во всех этих схемах не учитывается одно: как в той сказке, где мальчик крикнул: «А король-то голый!», – так и в данном случае – признание-то фальшивое.
Одним из первых, кто артикулировал важность фигуры Другого в процессе признания, стал Гегель [Кожев 2003]: в его философии самосознание не существует как система, изолированная от внешних вмешательств, наоборот, оно происходит лишь тогда, когда является открытым для другого самосознания: «Самосознание есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для некоторого другого [самосознания], то есть оно есть только как нечто признанное» [Гегель 1970, 318].
М. Бубер в своем труде «Я и Ты», где он раскрывает механизм диалога, не менее важную роль отводит проблеме признания, а точнее, такому ее аспекту, как взаимность, указывая на моменты, когда взаимное признание невозможно в полной мере: «Первое из этих двух препятствий довольно хорошо известно. Все, начиная с того, что твой взгляд день за днем встречает отчужденность в глазах “ближнего”, притом, что он нуждается в тебе, и кончая печалью святых, раз за разом втуне предлагающих великий дар, – все говорит тебе о том, что полная взаимность неприсуща совместной жизни людей. Она – милость, к приятию которой человек всегда должен быть готовым и на которую он никогда не может рассчитывать как на нечто гарантированное. Однако бывает так, что отношение Я-Ты по самой своей принадлежности к определенному роду не может развиться в полную взаимность, если оно должно и дальше существовать в пределах своего рода» [Бубер 1995, 65]. М. Бубер описывает ситуацию полного и частичного взаимного признания. Полное взаимное признание предполагает симметричность отношений, когда обе стороны в одинаковом отношении друг к другу находятся (например, дружба). Частичное взаимное признание – это ситуация, когда совпадение имеется в каком-то одном аспекте, но при этом сохраняется несимметричность: один обладает чем-то, чего нет у другого, и наоборот: «Другой не менее поучительный пример нормативного ограничения взаимности показывает нам отношение между искушенным психотерапевтом и его пациентом. Когда он удовлетворяется тем, что “анализирует” больного, то есть извлекает на свет из его микрокосмоса бессознательные факторы и преображенные посредством этого энергии прикладывает к сознательной работе жизни, то в некоторых случаях он добьется успеха. В лучшем случае он может помочь душе, лишенной четкой организованной структуры в какой-то степени собраться и добиться упорядоченности. Но осуществить то, что, собственно, на него возложено, – добиться возрождения зачахшего центра личности – он не способен» [Бубер 1995, 66–67]. По Буберу, взаимность не означает полного совпадения свойств участников признания, поэтому, рассматривая отношения пациента с психотерапевтом или ученика с наставником, он вводит концепт «схватывание». Схватывание – это ситуация, когда индивид удерживает в поле зрения две позиции: один из субъектов признания смотрит на происходящее и со своей точки зрения, и с точки зрения Другого, в то время как Другой видит только со своей точки зрения. Частичное признание предполагает, что один из участников процесса имеет усеченное признание (например, ученик или клиент), поскольку он не владеет картиной целиком, в отличие от другого участника (учителя или психотерапевта).
Ю. Хабермас, вслед за Гегелем, отмечает приоритетность взаимного признания в качестве условия формировании самосознания: «Опыт самосознания более не является первичным. Скорее, он вытекает у Гегеля из опыта интеракции, в которой я учусь видеть себя глазами другого субъекта. Сознание моей самости производно от ограничения перспектив.
Лишь на основе взаимного признания образуется то самосознание, которое должно проявиться в процессе моего отражения в сознании другого субъекта» [Хабермас 2007, 16].
Развитие этих классических представлений мы можем обнаружить в труде В.В. Бибихина «Энергия»: «Тысячу раз мы можем утешить себя, что никакого такого другого нет, что я достаю своим всемогущим разумом до всего. Это от страха. От того, что мы не хотим, не можем увидеть простого факта: не какое-то там метафизическое другое, а уже просто рядом другой человек такой, что достать мы его не можем, распорядиться им, вычислить его не можем, приручить, приспособить не можем. Он другой. Настолько другой, что нас со своей стороны может не признать. Мы зависим целиком от его признания, и по-настоящему, безусловно признания нас вынудить от него не можем» [Бибихин 2010, 181].
Из указанного фрагмента следует вывод, что признание нельзя запрограммировать, т.к. человек в этом процессе полностью зависит от воли Другого. Если признание целиком контролируется тем, кто его получает, то оно теряет свой смысл, потому что суть его именно в интерсубъективной связи.
Субъект признания может регулировать:
-
1) Факт признания, т.к. можно создать первичные условия для того, чтобы человек или вещь получили признание – например, когда в театре устраивают бенефисные спектакли в честь актера, празднующего юбилей, или когда организуется встреча читателей с автором, где он проводит презентацию книги и может получить отклик от публики, или когда в конце выступления оратор предлагает слушателям дать обратную связь;
-
2) Объем признания, так как можно приблизительно рассчитать то число актов признания, которое может последовать, исходя из знаний о количестве производимого продукта и его адресатов (в данном случае могут использоваться такие статистические показатели, как «количество проданных экземпляров», «количество скачиваний», «количество прослушиваний» и т. д.).
Однако невозможно предзадать качество признания, поскольку никогда нельзя прогнозировать и тем более гарантировать, как и на каком основании будет оценен данный субъект или объект. В истории мировой литературы можно насчитать много случаев, когда произведения автора, ставшие впоследствии классикой, вначале не хотели даже издавать (А. Кристи, М. Булгаков С. Кинг, Дж. Роулинг и др.). Известны и другие случаи, когда критики давали опубликованным текстам неожиданное признание (в том числе отрицательное), их авторов, вопреки их замыслам, признавали «революционерами», «диссидентами», «скандалистами», «радикалами», «гениями», «новаторами» и т. д. Сам автор, как правило, не может запланировать, кем и как его признают; он может рассчитывать на то, что после чтения стихов его признают в качестве гениального поэта своего времени, однако публика может полюбить его не за стихи, а только за приятный голос или манеру чтения.
Если возвращаться к вопросу о квазипризнании, то «накручивание» индексы признан-ности нарушает условие зависимости от Другого, стремится исключить фигуру Другого из механизма признания, что неизбежно означает утрату диалогичности, которая, в свою очередь, является одним из базовых принципов социального признания [Рикер 2010].
Тот факт, что признание полностью зависит от Другого, а не от самого индивида, позволяет применить к признанию другое понятие, а именно «энергема» – концепт, который вслед за А.Ф. Лосевым развивает В.В. Бибихин: «Энергема – явленность сущности со стороны сущности. Сущность не захотела ждать, когда ее постепенно воспримут в рыхлом материале меона. Она, оказалось, живая. Она не просто свет, который получает образ от тьмы в той мере, в какой тьма его ограничивает: сущность берет дело своего явления, отнимая его у тьмы, меона, так сказать, сама в свои руки и действует. Таков смысл энергемы. Энергема – это, так сказать, акт действия, квант активности» [Бибихин 2010, 187].
Энергема устроена так же, как и признание, точнее говоря, их объединяют следующие признаки: наличие внешней явленности, жизнь, способность к самостоятельному действию.
А.Ф. Лосев определял энергему как «предметный смысл имени», и это также подтверждает высказанную гипотезу о том, что признание является энергемой, поскольку оно представляет собой коммуникативный акт наречения имени, то есть схватывание сути вещи или человека, называние их своими именами: «Имя вещи есть максимально смысловое и умное явление вещи. Имя вещи и есть смысл вещи, разум вещи, сознательно сам себя выявивший вовне и разумно направляющий свои бездонные глубины на свет ясного сознания. Имя вещи есть предельное напряжение всех ее умных энергий, неустанно поднимающихся от глубин ее неистощимой сущности» [Лосев 1993, 845].
Не менее важными общими структурными компонентами энергемы и признания являются:
Смысл. Энергема является смыслом (сутью вещи); признание отражает смысл, позволяет раскрыть его, объективно существующий, но не актуализированный, пока признание не произошло. Например, когда формируется государство, то его международно-правовой статус возникает только тогда, когда его признают другие государства. В данном случае важна совокупная воля других государств (она же энергема), которая наделит государство этим статусом, то есть проявит потенциальный смысл его суверенности.
Открытость. А.Ф. Лосев давал другое определение энергемы как «сущности в модусе определенного осмысления, в модусе явленной, выраженной сущности, или просто явленной, или выраженной, сущности. Назовем последнюю энергемой» [Лосев 1993, 654]. Лосев указывает на такое свойство энергемы, как явленность, что совпадает с одним из свойств признания – артикулированностью, которое предполагает, что в ходе признания участник диалога словесно выражает то, что он видит в Другом, и обосновывает это. Поэтому скрытое признание, как и скрытая энер-гема, не функциональны, потому что не делают смысл известным для индивида или коллектива и, следовательно, не имеют социальных последствий. Если продолжать тот же пример с признанием вновь сформировавшегося государства другими субъектами международного права, то признание в данном случае должно быть артикулировано для того, чтобы изменить разметку реальности и обозначить границы государства, легитимировать складывающиеся институты власти, показать, что теперь существует новый участник меж- дународных отношений, который наравне с другими имеет определенные права и может претендовать на те же ресурсы, что и другие государства.
Ошибка тех, кто осуществляет имитацию признания, состоит в том, что они стремятся к самодостаточности и самообеспечению, исключая фигуру Другого из процесса признания, а значит, нивелируя энергему. С.С. Хоружий так описывает важность Другого в процессе изменений: «Осуществление бытийной премены – акт, нуждающийся в энергии, – и ясно, что эта энергия не может иметь своего источника в том самом бытийном горизонте, исход из которого она чаемо осуществит. Это – классический аргумент по поводу барона Мюнхгаузена: нельзя себя извлечь из болота здешнего бытия, таща себя же за волосы. Совершающая энергия должна принадлежать некоему внешнему, внеположному истоку, так что иное бытие должно быть не только существующим, но действующим и взаимодействующим с нашим бытием – взаимодействующим очень определенным образом, осуществляя его преме-ну» [Хоружий 2005, 61].
Представим себе, что актер театра сам покупает себе цветы, сам пишет себе записку о том, как он гениально исполнил роль, и сам просит своего друга принести эти цветы после спектакля. Никакой самой бытийной премены не происходит, скорее наступает обратный эффект – бытийная сохранность. Однако это противоречит идеям признанию и энергемы, которые предполагают движение и обновление.
Признание – это инициация (трансгрессия), после которой субъект обретает новое качество, отсутствующее в предыдущем опыте. Появление этого нового качества невозможно без участия Другого как открывателя неизвестного.
Список литературы Идея признания в работе В.В. Бибихина «Энергия»
- Бибихин 2010 - Бибихин В.В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010.
- Бубер 1995 - Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995.
- Гегель 1970 - Гегель. Иенская реальная философия // Работы разных лет. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970. С. 285-386.
- Кожев 2003 - Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003.
- Лосев 1993 - Лосев А.Ф. Бытие - имя - космос. М.: Мысль, 1993.
- Лосев 1995 - Лосев А. Ф. Форма - Стиль - Выражение. М.: Мысль, 1995.
- Рикер 2010 - Рикер П. Путь признания. Три очерка. М.: РОССПЭН, 2010.
- Хабермас 2007 - Хабермас Ю. Труд и интеракции. Заметки к гегелевской «Философии духа» йенского периода // Техника и наука как «идеология»: сб. ст. М.: Праксис, 2007. С. 8-49.
- Хоружий 2005 - Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
- Hanhela 2014 - Hanhela T. Educational Perspectives on Recognition Theory. Oulu: University of Oulu, 2014.