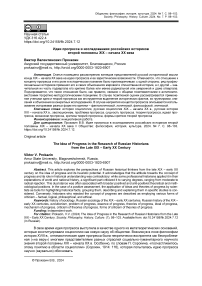Идея прогресса в исследованиях российских историков второй половины XIX - начала XX века
Автор: Проказин Виктор Валентинович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению взглядов представителей русской исторической мысли конца XIX - начала XX века на идею прогресса и ее эвристические возможности. Отмечается, что отношение к концепту прогресса и его роли в историческом познании было противоречивым: с одной стороны, ряд профессиональных историков применял его в своих объяснениях мировой и отечественной истории, а с другой - значительная их часть подвергала его критике более или менее радикальной или умеренной и даже отвергала. Подчеркивается, что такое отношение было, как правило, связано с общими позитивистскими и антипозитивистскими теоретико-методологическими позициями. В случае позитивной оценки рассматривается применение учеными идеи и теорий прогресса как инструментов выделения исторических фактов, их группировки, описания и объяснения в конкретных исследованиях. В случае неприятия концепта прогресса описывается использование историками разных форм его критики - фактологической, логической, философской, этической.
История социологии, русская социология xix - начала xx в, русская история xix - начала xx в, эволюционизм, проблема прогресса, сущность прогресса, теории прогресса, идеал прогресса, механизм прогресса, критика теорий прогресса, формы критики теорий прогресса
Короткий адрес: https://sciup.org/149145963
IDR: 149145963 | УДК: 316.422.4 | DOI: 10.24158/fik.2024.7.12
Текст научной статьи Идея прогресса в исследованиях российских историков второй половины XIX - начала XX века
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия ,
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia, ,
Историческая наука, в том числе российская, не осталась в стороне от этого общего процесса. Цель статьи состоит в анализе отношения российских историков второй половины XIX – начала XX в. к социологическому концепту прогресса как инструменту научного исторического исследования.
Как известно, идея прогресса, как инструмент познания, была воспринята неоднозначно в разных российских научных дисциплинарных сообществах. Таким образом, проблематика прогресса включала три основных группы тем: определение сущности и критериев прогресса, описание механизма прогрессивных изменений, выяснение места и роли идеи и теорий прогресса в научном социальном познании и политической практике.
Отношения российской исторической науки и российских историков к социологии в целом и социологической теории прогресса в частности складывались достаточно сложно. Как отмечает Н.И. Кареев, один из «общих историков» и первых русских социологов, социология и ее проблематика не были восприняты представителями исторической науки однозначно: «Везде историки в большинстве отнеслись к проблеме социологии с большим или меньшим равнодушием, даже совершенно ее игнорируя, а иногда и с прямым недоверием к ее притязаниям, в известных же случаях с полным отрицанием» (Кареев, 1996: 151–152). И поясняет: «Главный аргумент против социологии заключался в том, что методы естествознания неприемлемы к изучению исторической жизни, где все индивидуально» (Кареев, 1996: 152).
Соответственно, отношение историков (как, впрочем, и самих социологов) к социологическому концепту прогресса также было противоречивым. Вслед за Н.И. Кареевым представляется возможным выделить в самом общем виде три типичные позиции: принятие в той или иной степени идеи прогресса и применение ее в научных исследованиях; недоверие, отрицание и критику и, наконец, индифферентное отношение, которое проявлялось в большинстве случаев. На наш взгляд, существенное воздействие на формирование такого отношения исследователей к концепту прогресса оказывали, главным образом, теоретико-методологические позиции авторов – позитивизм и антипозитивизм, социологический реализм или номинализм.
К числу русских историков, принявших идею прогресса, можно отнести, прежде всего, историков-позитивистов, таких как С.М. Соловьев, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский и др., а также историков-марксистов.
Положительное отношение и к социологии в целом как особой «номологической» науке, и к ее идее прогресса демонстрирует прежде всего Н.И. Кареев, выступивший в качестве первого историографа не только всей русской социологии рассматриваемого периода, но и теории прогресса в ней. Н.И. Кареев оказался в числе первых российских разработчиков так называемой «исторической социологии», осуществив синтез социологии и истории и дав ему название «исто-риология». Историк не только принял идею прогресса, но и разработал собственную концепцию, руководствуясь ею при осмыслении исторического материала. Для Н.И. Кареева прогресс представляется некой «руководящей идеей», которая помогает группировать исторические факты (Кареев, 1883: 297). Сам прогресс состоит в развитии личности и условий для него, предполагающих утверждение либеральных ценностей.
Как историк, Н.И. Кареев является автором ряда работ по истории зарубежных стран. Например, в двухтомной работе «История Западной Европы в Новое время» автор дает «обзор главнейших явлений западно-европейской истории», начиная с «перехода от средних веков к новому времени» до истории XIX столетия. При этом он описывает состояние социальных «явлений четырех основных категорий» – «государства и общества, религии и духовной культуры» с точки зрения «разрушения сословно-феодального строя» и «победы государственности над феодализмом», «развития идеи народовластия» и «добывания общественными элементами политических прав» и т. п.
В другой масштабной и обобщающей работе «Общий ход истории. Очерки главнейших исторических эпох» каждый очерк заканчивается специальным разделом, в котором автор делает вывод относительно того, как общество прогрессировало («Культурное влияние Востока на европейскую историю», «Прогресс в античном мире», «Место средних веков в истории прогресса») в соответствующий период. Общий вывод таков, что мировая история – это история прогресса, который представляет собой длительный и сложный процесс. Его вершиной стало политическое, техническое и культурное развитие западноевропейских обществ, обеспечившее «всемирное господство европейских народов».
М.М. Ковалевский, также «всеобщий» историк, этнограф и социолог, прямо определял социологию как науку о «порядке и прогрессе человеческих обществ», их «организации и эволюции». Более того, без идеи прогресса социология не представляет собой самостоятельной науки, т. к. прогресс есть один из ее главных законов, который показывает «условия поступательного развития общества» (Ковалевский, 1910: 60). Суть прогресса, по Ковалевскому, состоит в расширении сферы социальной солидарности.
В своих исторических исследованиях М.М. Ковалевский, как и Н.И. Кареев, рассматривал идею прогресса в качестве важного средства обобщения исторического материала, его упорядочивания и осмысления. Главными трудами, в которых наиболее четко проявляется эта особенность творчества М.М. Ковалевского, стали «Происхождение современной демократии», «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму».
М.М. Ковалевский, как историк, уделял особое внимание изучению эволюции политических форм, а также хозяйственному развитию Европы. Хозяйство, как и другие сферы общества, непрерывно прогрессирует, происходит совершенствование производственного процесса, усложнение форм его организации от первобытности до современного капитализма, который создает для экономики неограниченные перспективы прогресса. В социально-политической сфере также происходит постоянная смена организационных форм, нарастание их сложности и степени общественной солидарности, кооперации в направлении от рода до современного государства. Главным показателем прогресса становится возникновение, нарастание и расширение демократии, которая понимается М.М. Ковалевским, прежде всего, как равенство перед законом. Автор обстоятельно на фактическом материале прослеживает эволюцию политических учреждений и развитие теории политической демократии.
С.М. Соловьев, занимаясь исследованиями русской истории, стремился представить ее как единый закономерный исторический процесс, подчиняющийся закону поступательно-прогрессивного развития (Соловьев, 1988: 51). При этом прогресс понимается им в спенсеровском духе и состоит в движении от низших простых к высшим сложным формам общественной жизни (Соловьев, 2010: 181). Он считает, что цель прогресса – это постепенное воплощение идеалов христианства в общественной жизни. Содержательно прогрессивное движение состоит в переходе от родовых форм организации общества к государственным, поскольку автор считает, что последние – это высшая форма исторической жизни.
Такое понимание прогресса С.М. Соловьев применяет при описании и интерпретации истории российского общества в главном труде «История России с древнейших времен». До конца XVI в. основным содержанием русской истории было ослабление родовых и усиление государственных начал. Последующее развитие было связано с победой государства и формированием правового и просвещенного общества, близкого европейской цивилизации.
Воспринявшим идею прогресса положительно, помимо позитивистского, можно говорить и об историко-материалистическом, марксистском подходе в понимании прогресса и его применения в исторических исследованиях второй половины XIX – начала XX в. Данный подход впоследствии стал единственно возможным в советское время, и практика его использования в отечественной историографии освещена достаточно полно.
Однако известно, что процесс утверждения его в русской историографии был сложным и противоречивым, и ему даются неоднозначные оценки. Помимо ортодоксального марксистского понимания истории, представленного в начале XX в. именами М.Н. Покровского, В.П. Волгина, П.О. Горина и др., существовали иные его версии, авторы которых, по крайней мере первоначально, расходились с официальной точкой зрения на прогресс в истории. К таким исследователям относится, например, Н.А. Рожков, известный специалист по российской истории. По мнению В.И. Ленина, теоретико-методологические взгляды Н.А. Рожкова были эклектичны и сочетали позитивистские и марксистские положения. Однако он разделял основные позиции исторического материализма в понимании исторического прогресса (Рожков, 2011).
Как отмечалось выше, наряду с положительной оценкой концепта прогресса и его роли в исторических исследованиях существовала и другая, противоположная, критическая. Критика теории прогресса велась не только историками, но и самими социологами, социальными философами, экономистами, политическими мыслителями, как позитивистами, так и сторонниками других методологических подходов. Она имела различные формы (фактологическую, логическую, гносеологическую, моральную и пр.) и направления (Проказин, 2006).
Среди русских историков наиболее воинственно в отношении идеи прогресса и его теорий были настроены Р.Ю. Виппер и В.М Хвостов. Негативно-критическое отношение русского историка и социолога Р.Ю. Виппера к идее и теориям прогресса было связано с пересмотром им общей методологии и теории истории. Этот пересмотр совпал с кризисными явлениями в развитии мировой философии и обществознания в целом, истории и социологии – в частности. Кризис последней был кризисом эволюционизма и натурализма как принципов объяснения социальных процессов и явлений.
Позитивистская теория прогресса, по мнению Р.Ю. Виппера, представляла «чуть ли не главный догмат культуры XIX века». «Считалось как бы за аксиому, – пишет ученый, – что всякий, кто хочет быть историком, должен усвоить веру в исторический прогресс и вооружиться всеми доказательствами в пользу ее правильности» (Виппер, 1921: 15). Однако в начале второго десятилетия
XX в., как считает Р.Ю. Виппер, теория потеряла свой авторитет. Критика им теорий прогресса может быть квалифицирована как фактологическая. Он доказывает несостоятельность идеи прогресса путем показа ее несоответствия данным этнологии, археологии и истории.
Так, археологические открытия отнюдь не подтверждают представления об истории как процессе быстрой смены общественных состояний. Напротив, археология демонстрирует нам «длинный ряд веков неизменного или почти неизменного уклада жизни». Теория прогресса использовала «факт утончения и усовершенствования общественных форм». Однако современная наука, по мнению социолога, на огромном протяжении истории наблюдает «упорное существование одних и тех же форм общественности»: семьи, племени, государства и др. (Виппер, 1911: 102). Важной иллюстрацией прогресса всегда служила, как отмечает Р.Ю. Виппер, «ссылка на движение религиозных идей». Но реально такого движения нет: те идеи, которые всемирные религии объявили своими приобретениями, напротив, необычайно стары. Все они возникли в глубокой древности (Виппер, 1911: 104).
Монотеизм современной религии считался важным примером прогресса. Однако даже в христианстве «единобожие фактически осталось фикцией» для подавляющих масс людей на огромном протяжении времени. Стоит отметить, что единобожие не всегда было результатом прогресса, оно возникало под влиянием тяжелых жизненных условий, включая природные факторы. Наиболее ярким примером может служить история Израиля и Египта.
Кроме того, современные протестантские секты (пиэтисты, квакеры и др.), с одной стороны, демонстрируют «сильную специфическую выработку логической способности», а с другой – «атрофию интереса к науке, искусству, к веселой и интимной общественности». В них часто господствует одна страсть – «жажда материальной наживы».
Очевидный показатель прогресса – успехи техники, но они не способствуют развитию и улучшению человеческой личности. Повсеместное использование машин сузило личное мастерство. Гибнут ремесла. Нет оснований, по мнению социолога, говорить и о моральном совершенствовании современного общества. Ранее считалось, что с прогрессом техники, быта и политики растут гуманность и солидарность, формируется честный, добропорядочный тип человека. Вместо этого старые связи между людьми («семейные, родовые, дружинные, корпорационные») разрушаются. А взамен современная жизнь не дала ничего равноценного (Виппер, 1921: 34).
Наконец, Р.Ю. Виппер приходит к двум общим и неизбежным, с его точки зрения, выводам. Факты, свидетельствующие против теории прогресса, говорят о том, что «эволюция человеческой культуры не представляется нам теперь одной линией, круто и ускоренно поднимающейся вверх. Эволюционный процесс раздробляется на много самостоятельных, по большей части вовсе не примыкающих друг к другу, в виде звеньев одной цепи» (Виппер, 1911: 106).
Факты исторического прошлого, как пишет социолог, «внезапно сделались возможными и повторными». Поэтому, по мнению ученого, «если до сих пор мы руководились построениями в духе теории исторического прогресса, то теперь есть основания вспомнить о другом забытом историческом мировоззрении, …которое развивал Дж. Вико в “Новой науке” (1725) и которое… зовется теорией исторического круговорота» (Виппер, 1921: 37).
Наиболее широким, включающим практически все способы критического анализа, был подход В.М. Хвостова, социолога и историка права. Он утверждает, что понятие прогресса нельзя применять не только в положительной науке, но даже в философских построениях исторического. Само понятие прогресса не может считаться строго научным, поскольку в нем присутствует субъективная оценка исторических фактов: «По моему мнению, понятие “прогресса” не может быть считаемо строго научным. Это вытекает из самого определения этого понятия: прогресс есть развитие, направленное к цели, которой мы придаем положительную ценность» (Хвостов, 1914: 273).
Кроме того, эта оценка должна иметь какое-то мерило, инструмент для измерения значимости, ценности исторических событий; попытка найти такой инструмент неизбежно уводит ученого в область метафизики, методами науки этот вопрос не решить: «Строго научным путем нельзя установить ни масштаба ценности, так как его установление неизбежно приводит к метафизическим построениям, ни доказать наличность прогресса и регресса… Понятие прогресса и ненаучно, и… в научных изысканиях лучше к нему не прибегать…» (Хвостов, 1914: 275).
Доказать то, что человечество движется к какой-то благой цели, научными методами также невозможно. Поэтому не следует использовать понятие прогресса в качестве некой руководящей историком идеи. Идея прогресса несостоятельна и с точки зрения философии истории, которая пытается постичь смысл исторического процесса. В истории не действует какая-то одна тенденция. Мир плюралистичен, и бездумный оптимизм теорий прогресса не имеет оснований (Хвостов, 1911: 362).
Идея прогресса прямо вредна в практическом отношении: если мы будем знать, чем закончится история, то любая созидательная деятельность потеряет для нас всякий смысл. Фактологически также идея прогресса несостоятельна: данные науки не свидетельствуют о том, что исторический процесс непрерывно движется в каком-то одном направлении; в нем сочетаются, сменяются периоды творчества, застоя и даже регресса.
Умеренную позицию относительно эвристических возможностей концепта прогресса в историческом познании занимал А.С. Лаппо-Данилевский, историк России. По его мнению, понятие прогресса может быть использовано как «регулятивная идея» для объяснения исторического процесса. Он критикует лишь определенные способы образования этого понятия. Эвристические возможности понятия прогресса обнаруживаются при сравнении историком двух основных подходов в историческом познании – «номотетического» и «идеографического» (Лаппо-Данилевский, 1913: 113). При использовании номотетического взгляда на историю недостатки концепта прогресса связываются с недостатками генерализующего изучения вообще. «Номотетизм, обобщая факты, не может учесть реальное многообразие и своеобразие действительности; он упрощает действительность, ничего не говорит об ее особенностях» (Лаппо-Данилевский, 1913: 162).
Теории прогресса дают обобщённое представление об историческом процессе. При идеографическом подходе представление о прогрессе возникает вследствие недопустимого телеоло-гизма в историческом исследовании. Телеологический подход неизбежен в научно-историческом исследовании, поскольку ученый «сознательно примышляет их к фактам для того, чтобы объяснить последние» (Лаппо-Данилевский, 1913: 110).
Однако недопустимо, чтобы регулятивный телеологизм превратился в конститутивный, признающий существование у исторического процесса объективной цели. Понятие о прогрессе возникает тогда, когда ученый-историк признает постепенную реализацию в действительности гипостазированной цели-ценности. Поэтому решающее значение для возможности применения понятия прогресса в научном исследовании имеют критерии оценки исторических явлений как прогрессивных или нет.
Самым важным из названных критериев является критерий обоснованной и общезначимой ценности. Он позволяет определить положительное или отрицательное значение явлений (Лаппо-Данилевский, 1913: 110). Отнесение к ценности следует всегда отличать от субъективной оценки фактов, связанной с ценностями партикулярными – сословными, национальными и пр. Однако в действительности «отнесение к ценности и субъективная оценка, разумеется, часто смешиваются в одном и том же субъекте» (Лаппо-Данилевский, 1913: 249).
Проведенный анализ показал, что отношение к концепту прогресса и его роли в историческом познании было противоречивым, как, впрочем, и в других науках об обществе: с одной стороны, ряд профессиональных историков применял его в своих объяснениях мировой и отечественной истории, а с другой – значительная их часть подвергала его критике более или менее радикальной или умеренной и даже отвергала. Такое отношение, на наш взгляд, было связано с общими позитивистскими и антипозитивистскими теоретико-методологическими позициями и социально-онтологическими представлениями ученых. В случае позитивной оценки исследователи применяют теории прогресса как инструмент выделения исторических фактов, их группировки, описания и объяснения в конкретных исследованиях. В случае неприятия концепта прогресса либо идея прогресса вообще игнорируется, либо подвергается разносторонней критике – фактологической, логической, философской, этической.
Список литературы Идея прогресса в исследованиях российских историков второй половины XIX - начала XX века
- Виппер Р.Ю. Очерки исторического познания. М., 1911. 288 с.
- Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921. 37 с.
- Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Т. 1: Критика историософических идей и опыт научной теории исторического прогресса. СПб., 1883. 456 c.
- Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. 368 с.
- Ковалевский М.М. Социология. Т. 1: Социология и конкретные науки об обществе: исторический очерк развития социологии. М., 1910. 300 c.
- Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Ч. 2. Методы исторического изучения. СПб., 1913. 322 с.
- Проказин В.В. Либеральные теории прогресса в русской социологии XIX – XX вв.: монография. Благовещенск, 2006. 107 c.
- Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения: Киевская Русь (с VI до конца XII века). М., 2011. 172 с.
- Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. Кн. 1. История России с древнейших времен. М., 1988. 797 с.
- Соловьев С.М. Избранные труды. М., 2010. 528 с.
- Сорокин П.А. Обзор основных теорий и проблем прогресса // Новые идеи в социологии (непериодическое изд., под ред. проф. М.М. Ковалевского и Е.В. до-Роберти). Сборник. 3. Что такое прогресс? СПб., 1914. C. 144–149.
- Хвостов В.М. Плюралистическое миропонимание // Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 109 (IV). С. 361–394.
- Хвостов В.М. Теория исторического процесса: очерки по философии и методологии истории: курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М., 1914. 315 с.