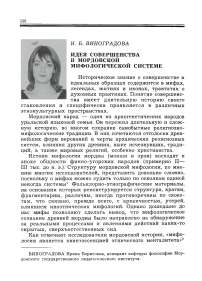Идея совершенства в мордовской мифологической системе
Автор: Виноградова Ирина Борисовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 3 (60), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс формирования понятия «совершенство» в мифологическом сознании мордовского этноса. На примере древней мордовской мифологии доказывается специфика этих процессов в различных этнокультурных условиях.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222373
IDR: 147222373
Текст научной статьи Идея совершенства в мордовской мифологической системе
Историческое знание о совершенстве и идеальных образцах содержится в мифах, легендах, житиях и иконах, трактатах о духовных практиках. Понятие совершенства имеет длительную историю своего становления и специфически проявляется в различных этнокультурных пространствах.
Мордовский народ — один из архогенетических народов уральской языковой семьи. Он пережил длительную и сложную историю, во многом сохранив самобытные религиозномифологические традиции. В них сочетаются отголоски древнейших форм верований и черты архаических религиозных систем, влияния других древних, ныне исчезнувших, традиций, а также мировых религий, особенно христианства.
Истоки мифологии мордвы (мокши и эрзи) восходят к эпохе общности финно-угорских народов (примерно II— III тыс. до н. э.). Структуру мордовской мифологии, по мнению многих исследователей, представить довольно сложно, поскольку о мифах можно судить только по осколкам единой некогда системы1 Фольклорно-этнографические материалы, на основании которых реконструируется структура, кратки, фрагментарны, различны, иногда противоречивы по сюжетам, что связано, прежде всего, с архаичностью, утерей, влиянием иноэтнических мифологий. Однако дошедшие до нас мифы позволяют сделать вывод, что мифологическое сознание древней мордвы было направлено на обнаружение за реальными процессами и явлениями действий каких-то скрытых, сверхъестественных сил.
Как отмечают исследователи мордовской истории, «мифология является квинтэссенцией этнического менталитета»2
ВИНОГРАДОВА Ирина Борисовна, аспирант кафедры философии Мордовского государственного педагогического института.
Миф определяют как «основной метод общинно-родового мышления с характерным всеобщим одушевлением жиз-ненно-родственнвтх элементов, объясняющий мир и способ существования в нем человека»3 Вместе с тем следует различать понятия «миф» и «мифологическое сознание», ибо последнее представляет собой специфически-иррацио-нальное отражение мира, а миф является объективацией мифологического сознания в вербализированных или иных знаковых формах (обрядах, изображениях).
Поскольку конечной целью морального идеала «всегда является достижение совершенно доброго мира, обладающего свойством бессмертия (вечной жизни) и противостоящего порочному эмпирическому миру»4, для представления о нем сознание человека должно быть способно к абстрагированию и идеализации (мысленному конструированию понятия об идеальных объектах). Можно согласиться с тем, что архаичный человек потенциально был «способен к идеализации, но реализация этой способности была затруднена для него чувственно-конкретным характером его мышления»5. В языковом отношении для мифологического мышления мордовского народа было характерно слабое развитие абстрактных понятий. Такие сложные понятия, как «совершенство», «идеал» в силу специфики мифологического типа мышления не находили своего отражения в лексике древней мордвы. Современные словари мокшанских и эрзянских слов дают глагол «совершенствовать» в значении «улучшать», что означает «в высшей степени хороший»6
Миф правомерно рассматривать как предварительное жизненное условие мордовской (как и любой другой) культуры, потому что посредством его складываются и оформляются определенные ценностные ориентиры. Как показывают исследования Р. Литона и К. Клакхона, «всем человеческим культурам (включая самые первобытные) внутренне присущи такие моральные принципы, как взаимоуважение, справедливость, ответственность родителей, послушание детей, запрет воровства, лжи, убийства члена своей группы»7 Нравственность мордовского этноса основана на таких качествах, как преданность общине, почитание старших и забота о младших, скромность, храбрость, великодушие, доброта, любовь к родной земле.
Первобытная мораль мордвы не знала фанатизма и догматизма, контроля за мировоззрением и внутренним душевным миром людей. Она отличалась большой гибкостью, реализмом, умением приспособиться к обстоятельствам. Нравственное сознание первобытных людей было, в конечном счете, ориентировано на соблюдение ритуалов, понимаемое как выполнение своего священного долга. Спецификой архаичной морали было доминирование практики над сознанием, однако «пока субъекты морали сознательно и добросовестно выполняют свои обязанности, живет и нравственная культура»8. В архаичной мордовской культуре была развита система различных религиозно-магических обрядов, молений, заговоров, заклинаний. Чтобы привлечь к себе благоволение божеств и отвлечь гнев, мордва приносила жертвы, о необходимости которых, якобы, боги дают знать забывчивым людям, насылая стихийные бедствия. Жертвоприношения мордва совершала всем божествам своего пантеона, весьма многочисленного, и размеры их зависели от значимости просьб, с которыми обращались к богам. До нас дошли свидетельства о человеческих жертвах, приносившихся по решению общинного схода9
Ранние формы верований связаны с тотемическими представлениями о зооморфных предках. Этнографические материалы дают основание утверждать, что мордва отождествляла себя прежде всего с теми объектами природы, которые сама особо почитала10 Это почитание порождало стремление уподобиться данному объекту или хотя бы его части (когтю, зубу, шерсти, шкуре). Прикасаясь к последним, храня их в качестве амулетов, человек полагал, что находится под их защитой, обретает присущие им свойства: силу, хитрость, могущество. Таким образом, отождествление-уподобление выступает в качестве примитивного средства совершенствования человеком своей природы. Почитая природное как сверхъестественное, человек ощущал себя малой и слабой частицей того мира, которого он не мог понять, но к которому хотел приобщиться, приблизиться и обрести его более совершенные черты.
Проживая в условиях лесного ландшафта, мордва была оседлым народом с земледельческой культурой. Поэтому не случайно в ее фольклоре зафиксирован большой цикл пе- сен-мифов, изображающих процесс утверждения земледелия, говорящих о превосходстве этой разновидности хозяйства над охотой и рыбнтт ловлей, как недостаточно продуктивными и рискованными промыслами. В песнях-мифах об охотнике и утке нашли отражение отношения людей к своим родовым предкам. Утка предстает как тотем рода, к которому принадлежит охотник. По этой причине она выступает то человеком, то запрещенной для охоты птицей, и убивший ее (нарушитель родового запрета), совершает тяжкое преступление11 Позитивным или негативным в нравственном смысле выступает охотник в зависимости от того, убийца он утки, как бывает в большинстве случаев, или же избавитель, могущий стать ее женихом или мужем. В ряде песенных мифов утка — девушка, принявшая образ птицы. Если охотник не убивает птицу, не нарушает морального табу, то вознаграждается за добродетель. В тех же песнях-мифах, в которых охотник, семейный человек, оказывается бездумным, не прислушивается к просьбам зверя или птицы и совершает убийство, птица (зверь) заранее предупреждает его, что в таком случае погибнет и семья охотника. Возвратившись домой, он не застает в живых ни жены, ни детей и только тут осознает тяжесть своего преступления.
Очевидно, что здесь имеет место нравственный реализм, отраженный в схеме: запрет — нарушение запрета — наказание. В песнях об охотнике и утке нельзя, вместе с тем, видеть лишь осуждение бездушного человека. В них утка прежде всего жизнедательница, а потом уже птица. Эта утка отличается необыкновенной красотой оперения, величественным видом, связью с человеческим родом (заколдованная женщина). Иногда она — птица верхнего бога Верепаза или божества леса Вирявы. В то же время заповедная утка, запрещающая убивать себя, — не только тотемное животное и добрая невеста, но и карательница человека, занимающегося немирным, неземледельческим трудом. Образ добра и красоты, заключенный в утке, неотделим от образа опасного, карающего существа. Этот синкретизм восприятия моральных качеств будет еще долгое время характерен для мордвы, замедляя процесс формирования нравственного идеала.
По воззрениям дохристианской мордвы, божества — это первые хранители интересов рода, ближайшие к людям представители потустороннего мира. Таких божеств было много, однако на первом месте стояли духи, покровитель-ствукУЩие жилищу12
Специфика мордовской мифологии — преобладание женских божеств. Это божества-покровительницы земледелия, животных, промыслов, природы, стихии (воды, леса, огня, ветра и т. д.). У них, по воззрениям мордвы, имеются мужья и дети, но они самостоятельной роли не играют, выступают только помощниками богинь, исполнителями их воли. Патриархальная теогония стала проявляться, вероятно, довольно поздно и до крещения мордвы (XII—XIII вв.) еще не успела сложиться в стройную систему, вытеснить матриархальный „Олимп"
Покровительницей Земли являлась Масторава, ее помощницей — Модава. Хозяйка земли Масторава, по поверьям мордвы, обладала плодотворной силой. Образ ее антиномичен в нравственно-ценностном отношении: будучи одной из главнейших богинь мордовского пантеона, Масторава была наделена как благотворной, так и разрушительной силой (могла навлечь болезнь и даже лишить жизни). Кроме того, она обладала безобразной внешностью: это некрасивая женщина «с черным лицом, длинным носом, толстыми губами»13 Но эта некрасивость не выступает как отрицательная характеристика богини и связана не с ее «внутренними качествами», а с отождествлением ее с черноземом и ландшафтом. Безусловно, подобный облик отражал страхи первобытных людей перед могуществом богини.
Общим свойством богинь матриархата было некоторое безразличие к человеку. Они существуют без каких-то стремлений или борьбы, просто живут как духовные сущности стихий. При этом, например, вода и водяная женщина Ведява, которая жила в каждом водоеме, не тождественны друг другу. Но все, что случается с человеком через воду (дурное и хорошее), связано с этой женщиной. Чтобы никто не утонул от них откупались, бросая в воду монеты, пшено, хлеб или хмель для медового вина. Ведява, как и другие богини, может наслать болезнь, поэтому ведьмы обращаются к ней с просьбой принять дар и исцелить человека. Ведява — покровительница брака и деторождения. Неисполнение обряда беременной женщиной могло повлечь смерть ребенка во время родов или его немоту впоследствии14.
Вармава, богиня ветра, Вирява, божество леса, другие богини также нргли людям как добро, так и зло. Следовало всегда почитать богов и задабривать, принося жертвы или обращаясь к ним с просьбами.
Роль домового выполняла Кудява. Это божество дома, охранявшее быт и уют, но если ее рассердить, она могла навлечь неприятности. Следует особо отметить, что Кудяве принадлежит надземная часть дома, но не подземелье. В отличие от античной мифологии, богиням древней мордвы не принадлежало небо (или вершина высокой горы), они обитали на одной пространственной линии с людьми. Но в сознании человека «низ» (подпол в избе, глубокий темный овраг) ассоциировался с неуправляемыми темными силами, бесконечным злом, и вызывал панический страх. В представлениях мордвы, нижняя зона—мир усопших, позднее — место для душ грешников. Понятия об аде и рае (как, например, у славян) у языческой мордвы сформировано не было.
Во всяком месте Природы мордва обнаруживала свою аву (богиню). Кажется очевидным, что богини не обладали совершенной нравственностью. Будучи покровителями людей, они легко сердились, и в этом случае были способны на различные мстительные действия. Архаичный человек не воспринимал этих богинь как нравственный эталон, не подражал им, а только боялся и просил покровительства. Этот первобытный страх — следствие неразвитости сознания и мышления, не способных установить причинно-следственную связь и проникнуть в глубинную суть событий. В результате ответственность за все негативное (как и позитивное) в судьбе человек возлагал на переменчивых в настроении могущественных богинь. Вместе с тем в архаическом сознании народа зрело формирование оппозиционного мировосприятия, в чем проступает стремление представить в упорядоченном виде то, что окружает человека, как темную бездну, перед лицом которой может возникнуть лишь страх. Это впоследствии сыграет важную роль в становлении нравственного идеала в мордовской культуре.
Серьезный шаг в данном направлении будет осуществлен в связи с распадом первобытности. Появляется самый могущественный хозяин — верховный бог, творец Шкай (м.), Нишке, Нишке-паз (э.), подчинивший себе все другие божества, считавшиеся сначала покровителями, а затем и хозяевами тех или иных сфер природы и жизнедеятельности людей. Одновременно появляется образ его антипода — Идемевся (э.), Шайтана (м.) (тюркское заимствование), воплощающего злое начало. Таким образом, в мордовской мифологической картине мира постепенно формируется бинарная оппозиция как универсальное средство познания мира. Мифологическая система поднимается на новый уровень, ибо возникают параметры универсального описания: хорошее—дурное, жизнь—смерть, свет—тьма и т. д. В результате раздела универсума на свет и тьму, абсолютное добро и абсолютное зло развивается моральное сознание человека и общества в рамках концепции должного и сущего. Должное — это лишенный конкретизирующих характеристик универсальный идеал, описывающий совершенного человека и идеальное общество. Этот идеал абсолютно прекрасен, но до конца принципиально не реализуем. Другим элементом оппозиции является сущее. В общем смысле сущее есть мир реальности, в котором живет человек, исповедующий идеал должного. Поэтому сущее есть реальность, рассматриваемая через призму должного. Открыв для себя должное, человек осознает, что мир ему не соответствует. «Отсюда фундаментальное, статусное, ценностное и онтологическое различение должного и сущего. Должное — сакрально и благодатно. Сущее — профанно и безблагодатно»15.
Эта концепция не нашла своего окончательного становления в рамках мифологического сознания древней мордвы. Мир ее всегда наделялся амбивалентными свойствами. Понятие об абсолютном добре и зле приходит с признанием единобожия, установлением христианской религии. Следует отметить, что христианство в данном случае представляло собой лишь сравнительно поверхностное, в значительной мере формальное наслоение над глубоко укоренившимися древними, самобытными верованиями и обрядами, в силу различных обстоятельств оказавшихся весьма живучими и сохранившимися до наших дней.
Тем не менее, человек, его культура и нравственное сознание не могут существовать вне идеала. Его образ формируется благодаря заимствованиям из других культур (индоиранской, славянской), но в первую очередь — христианской. Осознав и по-своему объяснив несовершенную сферу сущего, мордовский народ постепенно открывал для себя сферу должного, ассоциируя ее с небом, которое создал и в котором обитал Шкай. Слова „Шкай“, м., „Паз“, э. переводятся подобно христианскому — Бог. Это Бог огня, любви, неба, семейной жизни, обладающий большой силой добра. Его представляли высокого роста, с большими глазами и бородою до земли. Иногда он ходит под окнами, чтобы подслушать мечты людей и исполнить их. Подобно христианскому Иисусу, он послан к людям богом-отцом Чипазом, и тот жил на земле, помогая им и уча добру. Но, подстрекаемые чертом, Шайтаном, люди убивают Шкая, который возносится на небо. Так представляется грехопадение человека, перекликающееся с христианскими верованиями о смерти Спасителя. В наказание за содеянное Бог мстит людям: Солнце стало светить в 7 раз меньше, зима стала в 7 раз суровее; земля потребовала усиленного труда, урожай стал хуже16
Большой антропогонический интерес представляет миф «Рождение земли (Человек)», согласно которому Нишкепаз создал человека в качестве помощника для себя в материальном мире: «Смотрит Инешкай на Мастораву — нет людей на ней, она пустынна. Лесорубов нет в лесах высоких, косарей нет на лугах зеленых. Для чего леса без лесорубов? Без косцов зачем трава густая?»17. Таким образом, Бог оставил право материального труда и творчества за человеком, за собой сохранив лишь стихии. Какую возможность для совершенства даровал он при этом человеку? Божественный дух для работы с материей породил нечто промежуточное — человека, который с одной стороны, материален, с другой — имеет душу и через это связан с планом богов. По воли богов, дух человека должен обратить себя к земному миру. Однако стремление к знанию зовет душу и к освоению духовного плана, постижению сферы должного. Боги, являясь идеальными сущностями, принадлежат к духовной реальности. В отношении духа достижение законченного совершенства является возможным, в отличие, от материального мира.
Таким образом, нравственный реализм архаичной культуры мордвы выступает как исторически первая форма нравственности, обладающая многими достоинствами. Он является начальным этапом, почвой развития индивиду- ального сознания, формирования активной духовной жизни, что представляет необходимое условие реализации перфективного устремления.
Среди важнейших особенностей мифологического сознания мордвы, препятствующих становлению нравственного идеала, можно назвать, во-первых, отсутствие в эмоционально-образном языке первобытного народа абстрактных понятий («моральное добро», «идеальное состояние», «совершенство» и т. п.); слабое развитие способности отделять свойство предмета от самого предмета.
Во-вторых, стремление к духовному возвышению как результат саморефлексии было блокировано в силу специфики архаичного сознания, его синкретизма. Человек был вписан в структуру общества, а оно, в свою очередь, являлось частью природы. Таким образом, затруднялось формирование индивидуального самосознания.
В-третьих, представление о мире как гармонии, с необходимостью содержащей в себе антиномию «добро—зло». Любое нарушение этой гармонии, по представлениям древней мордвы, могло повлечь за собой наказание, а потому вызывало страх. Сущность нравственной жизни состояла в исполнении ритуалов, задабривающих богов, т. е. в поддержании свыше установленного порядка. С этим связаны неспособность мыслить, подсознательный отказ от признания существования совершенного, идеально доброго мира (как и абсолютно злого мира).
Постепенное преодоление этих факторов в процессе цивилизационного развития, приобщения к русской, а затем европейской культуре, привело к становлению нравственного идеала как ведущего элемента духовной культуры мордовского народа. Однако зачатки представлений о нравственном идеале, путях самосовершенствования заложены именно в мифологическом сознании.
Список литературы Идея совершенства в мордовской мифологической системе
- Девяткина Т. П. Мифология мордвы: энциклопедия. Саранск, 2006;
- Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы: этнографический справочник. Саранск, 2004;
- Юрченкова Н. Г. Мифология в культурном сознании русского этноса. Саранск, 2002.
- Брейкин О. В. Становление нравственного идеала в культурах Древнего мира. Саранск, 1996. С. 5
- Русско-мокшанский словарь. М., 1951. С. 551;
- Русско-эрзянский словарь. М., 1948. С. 350.
- Самородов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 1980. С. 112.
- Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964. С. 227.
- Яковенко И. Г. Эсхатологическая компонента российской ментальности (Связи, обусловленности, логика актуализации)//Обществ, науки и современность. 2000. № 3. С. 88.
- Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2003. С. 30.