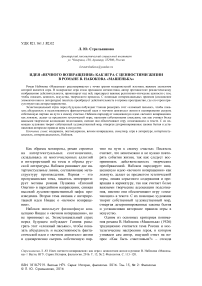Идея "вечного возвращения" как игра с ценностями жизни в романе В. Набокова "Машенька"
Автор: Стрельникова Лариса Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Роман Набокова «Машенька» рассматривается с точки зрения модернистской эстетики, важным элементом которой является игра. В модернизме игра стала признаком метапоэтики, автор противостоит реалистическому изображению действительности, иронизирует над ней, пародирует важные религиозно-этические ценности с тем, чтобы показать ценность искусства, творческого процесса. С помощью интермедиальных приемов (соединение элементов кино и литературы) писатель преобразует действительность в игровое пространство, где его герои присутствуют как актеры-марионетки. Экзистенциальный страх перед будущим побуждает Ганина разыграть этот «сложный пасьянс», чтобы показать абсурдность и недостижимость фантастической идеи о «вечном двигателе» жизни и одновременно сыграть собственную партию на пути к своему счастью. Набоков пародирует ницшеанскую идею «вечного возвращения» как ложную, делает ее предметом эстетической игры, наполняя собственными смыслами, так как считает более важными творческие ассоциации подсознания, именно они обеспечивают игру «означающих» в тексте. С их помощью художник творит собственный художественный мир, отвергая детерминированные законы бытия и устанавливая авторские правила игры в искусство.
Модернизм, постмодернизм, вечное возвращение, симулякр, игра в литературе, интертекстуальность, интермедиальность, набоков
Короткий адрес: https://sciup.org/147219520
IDR: 147219520 | УДК: 821.161.1:82.02
Текст научной статьи Идея "вечного возвращения" как игра с ценностями жизни в романе В. Набокова "Машенька"
Как образец метапрозы, роман строится на интертекстуальных соотношениях, складываясь из многочисленных аллюзий и интерпретаций на темы и образы русской литературы. Набоков развивает две интертекстуальные линии, составляющие метаструктуру произведения. Первая – это пропушкинская тема, писатель интерпретирует мотивы романа Пушкина «Евгений Онегин» в пародийном направлении, снижая высокий духовно-нравственный пафос произведения. Вторая тема связана с интерпретацией идеи Ницше о «вечном возвращении».
Набоков использует философскую концепцию Ницше о «вечном возвращении», но не принимает ее. Экзистенциальный страх перед будущим побуждает Ганина разыграть этот «сложный пасьянс», чтобы показать абсурдность и недостижимость фантастической идеи о «вечном двигателе» жизни и одновременно сыграть собственную пар- тию на пути к своему счастью. Писатель считает, что невозможно и не нужно повторять события жизни, так как следует воспринимать действительность творческих преображенной. Набоков пародирует ницшеанскую идею «вечного возвращения» как ложную, делает ее предметом эстетической игры, лишая серьезного содержания и превращая в карикатуру, так как считает более важными творческие ассоциации подсознания, именно они обеспечивают игру «означающих» в тексте. С их помощью художник творит собственный художественный мир, отвергая детерминированные законы бытия и устанавливая авторские правила игры в искусство.
Одним из основных критериев понимания романа В. Набокова «Машенька» (1926) традиционно считается тема России и ностальгические настроения героя, в котором узнаваем сам автор, ищущий ответ на вопрос «Как быть счастливым?» – отсюда
Стрельникова Л. Ю. Идея «вечного возвращения» как игра с ценностями жизни в романе В. Набокова «Машенька» // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 2: Филология. С. 113–120.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 2: Филология
первое название романа «Счастье». Образ Машеньки в многочисленных исследованиях, начиная с эмигрантских отзывов (С. Изгоев, Ю. Айхенвальд, Г. Струве и др.), традиционно ассоциировался с мотивом утраченной России, воспринимался как ее символ, о чем говорит и главный герой романа Ганин: «Судьба в этот последний августовский день дала ему наперед отведать будущей разлуки с Машенькой, разлуки с Россией» [Набоков, 1990. С. 83]. От этой ностальгической фразы Ганина отталкивается критик Н. Андреев, увидев аллегорический параллелизм образа Машеньки с утраченной родиной: «Единственный мир, оживающий для Ганина, – тот, о котором тоскует его душа. И отсюда один шаг до аллегории: Машенька – это Россия» [2000. С. 189].
В предисловии к английскому переводу романа, написанному сорок лет спустя, Набоков выделит эту исповедально-ностальгическую черту, сказав, что «тоска по родине остается на всю жизнь», отразившись в книге «долей болезненной сантиментальности» [Набоков, 1997б. С. 62]. Ю. Айхенвальд также подхватил ассоциативную пару «Машенька – Россия», обратив внимание на символичность и лиричность образа героини: «Машенька светится отблеском России, и потому вдвойне очарователен ее облик – и сам по себе, и своим отраженным светом; она пленяет как личность, она пленяет как символ, и не только она, но и самый роман, который окрещен ее ласковым именем» [2000. С. 26].
Таким образом, первые критики «Машеньки» из эмигрантской среды увидели то, что хотели увидеть, а именно: страдания русского человека в условиях вынужденного изгнания, его неприкаянность, тоску по России и утраченному раю родового поместья, символизирующему понятие родины. Нельзя не заметить, что на все эти актуальные для русского человека в изгнании проблемы Набоков смотрит нерусским взглядом, с «другого берега» европейского модернистского искусства, используя приемы неклассической эстетики, позволяющей «отдаться духу игры» [Набоков, 1998. С. 26], опровергающей прямоту здравого смысла. Специфика модернистской игры проявляется в первую очередь в том, что главным в своих произведениях Набоков делает освобожденный от духовно-нравст- венной составляющей продукт творчества – в романе отсутствуют большие идеи, против которых всегда выступал писатель, но присутствует эстетическая игра как способ перевода реальности в пространство «магического» искусства без жизненного прототипа, когда начинает «играть сам текст», а также читатель «играет в текст», чтобы получить удовольствие, а не быть примитивным «потребителем» искусства [Барт, 1989. С. 420]. Как игровой текст роман следует интерпретировать с точки зрения его многоплановости и многозначности смыслов, что создает художественную структуру, лишенную единого смыслового центра, а смысл выявляется не как результат детерминистских отношений, а в процессе чистой игры, свойственной искусству.
Эту специфику набоковского романа отметил Ю. Левин, выделив в нем двойственную модель мира как игровую, сказав, что «реалистические мотивировки, «жизнепо-добие», невмешательство авторской руки – все это не более, чем поверхностный слой романа, на поверку оказывающегося в высшей степени «авторским», построенным не столько по «законам жизни», сколько по определенным «правилам игры»» [Левин, 1997. С. 359–360]. Уже в первом романе намечается антиреалистическая стратегия набоковского творчества, определяющая его модернистскую направленность, писатель отходит от установок детерминированного соотношения искусства и действительности, придя к выводу, что художественное произведение не должно быть копией образов жизни, а писатель-Творец призван, как заметит Б. Носик, работать «над пересозданием Мира усилиями своего необычного Дара» [1995. С. 205].
Между тем нельзя не признать внешней реалистической формы романа, подробных, даже детальных описаний жизни эмигрантского Берлина и дореволюционной России, но в то же время видно, что «мир его (Набокова. – Л. С .) создан не по шаблону» [Бойд, 2010. С. 280]: фрагментарность композиции, смещение планов повествования от реального воспроизведения событий до иллю-зорно-сновиденческих ассоциаций главного героя, интертекстуальные игры с культурными кодами направляют на иррациональномифологическое восприятие, а концепция мимесиса опровергается в силу ее антихудожественности.
Главный игровой концепт поэтики романа формулирует главный герой, обращаясь к формам ассоциативных воспоминаний и иронически воспроизводя ницшеанскую философско-мифологическую идею «вечного возвращения» как «бесконечную игру в жизнь»: «Я читал о «вечном возвращении»… А что если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? <….> Да: неужели все это умрет со мной?» [Набоков, 1990. С. 59]. Гипотеза о вечном возвращении была разработана Ницше, в ней отразился его подсознательный страх смерти и увлеченность идеей вечной жизни, бессмертия сущего в его бесконечной повторяемости материальных форм, что соотносится с восточными языческими пантеистическими культами о вечном круговороте жизни и цикличности бытия в природе. Сверхъестественное учение Ницше предназначалось для сильного волевого сверхчеловека, чтобы он мог побеждать слабых и радоваться, что игра жизни принадлежит вечности природы и будет возобновляться ею вновь и вновь: «… все вещи вечно возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы уже существовали бесконечное число раз и все вещи вместе с нами» [Ницше, 2007. С. 192].
Набоков «разыгрывает пасьянс» игровой модели ницшеанского «вечного возвращения» в ее антагонистическом значении первоначальному смыслу, он разрушает мифологический аспект этой идеи, предлагая собственную эстетическую мифологему, через которую «отстаивает неповторимость особенного» в искусстве, а не в жизни, и фактически выводит за рамки сознания пространство и время, говоря, что «ни времени, ни последовательности нет места в воображении автора» [Набоков, 1998а. С. 476]. Экзистенциальный страх перед будущим побуждает Ганина разыграть этот «сложный пасьянс», чтобы показать абсурдность и недостижимость фантастической идеи о «вечном двигателе» жизни и одновременно сыграть собственную партию на пути к своему счастью с Машенькой: «Да, вот это – счастье. Через двенадцать часов мы встретимся» [Набоков, 1990. С. 59] – и тогда его жизнь сильной личности обретет высший смысл, так как он, если следовать ницшеанской формуле, «сам принадлежит к причинам вечного существования» и сможет, как сверхчеловек, повелевать временем и пространством [Ницше, 2007. С. 192].
«Сохраняя естественный консерватизм ребенка с его стремлением удержать привычное» [Бойд, 2010. С. 75], Набоков переигрывает концепцию Ницше, предлагая более близкую ему бергсоновско-прустовскую модель ассоциативной памяти, действующей по законам подсознания, когда прошедшие события нельзя вернуть, но можно пережить как настоящие в эстетизированных, украшенных игрой воображения воспоминаниях, и тогда бытие будет восприниматься как игра, реализованная в творческом акте. Как считал писатель, «все держится на идеальном слиянии прошлого и настоящего» [Набоков, 1998а. С. 474], что вело к устранению самого понятия времени, размыванию исторических границ прошлого и настоящего, так как ни один факт времени не может быть зафиксирован определенно, все находится в хаотическом движении, поэтому в соответствии с законами ассоциаций «Ганин <…> почувствовал <…> быстротечность, неповторимость человеческой жизни» [Набоков, 1990. С. 50].
Дальнейшие поступки Ганина показывают, что метафизическая реальность вечного возвращения не совпадает с наличным бытием и может быть включена только в подсознательную игру воображения, так как в действительности жизнь нельзя «переиграть» до бесконечности, человек расплачивается собой и своими ближними за совершенные деяния, а несерьезная игра в жизнь обращается в человеческую трагедию: переведя стрелки часов, Ганин лишил Алферова возможности встретить свою жену Машеньку, сам же герой оказывается вне жизни и важной цели, как пустая форма без человеческого содержания, он «до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им» [Там же. С. 112]. Ницшеанская идея «вечного возвращения» разрушается, как не сложившийся пасьянс, так как Ганин не соответствует идеалу сверхчеловека; наоборот, он разрушает этот идеал вечной повторяемостью самого себя как нерешительного, низкого, «маленького человека», выявив тем самым оборотную, античеловеческую сторону учения: «Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается! <…> Это было отвращение мое к человеку!» [Ницше, 2007. С. 191]
Игровой метатекст романа Набокова, словно мозаика, складывался из многочисленных аллюзий и интерпретаций на темы и образы русской литературы, что позволяет говорить не столько о традиции преемственности, сколько о тотальной интертекстуальности, переводящей роман в постмодернистскую плоскость «означающего» «посредством множественного смещения, взаимоналоже-ния, варьирования элементов» [Барт, 1989. С. 416]. Так, комбинация интертекстуальных отсылок к пушкинской Татьяне является пародийным перепевом и обыгрыванием мотивов и идей произведения великого русского поэта, что стало показателем девальвации традиционных духовных ценностей в культуре модернизма и постмодернизма, происходит, как укажет впоследствии М. Фуко [1998. С. 145–147], переход от культа души к культу тела. Например, Машенька во время романа с Ганиным в России недвусмысленно предлагает себя: «Я твоя, – сказала она. – Делай со мной, что хочешь» [Набоков, 1990. С. 86].
Продолжением темы суррогатной, «механической любви» служит берлинский роман Ганина с Людмилой. Людмила – пародийное отражение Машеньки, показывающее невозможность реализации идеи «вечного возвращения» любви, так как она, подобно Ганину, является частью безжизненного мира теней, обитающих в условиях эмигрантского бытия. Машенька на какое-то время становится для Ганина символом его возможного возрождения, попыткой освобождения от мертвенного бытия берлинской эмиграции и возвращения всей прошлой жизни в России. В то же время оказывается, что обе героини вытеснены за рамки реальности и помещены в выдуманную, сочиненную героем иллюзию и русской, и берлинской жизни. Не случайно перед тем как встретить Машеньку, Ганин «почему-то вспомнил вдруг, как пошел проститься с Людмилой, как выходил из ее комнаты» [Набоков, 1990. С. 111]. Их похожесть проявляется и в присущей обеим чувственности, что снижает высокий пафос идеала Машеньки и придает ему значение чего-то временного, ненастоящего, свойственного и Людмиле, но в то же время метания между двумя женщинами являются залогом «свободного действия» Ганина, творца собственных иллюзий и ассоциаций, что включает его в игровой процесс театрализации бытия.
Подобно тому, как Людмила выступает пародийным антиподом Машеньки, так и Алферов своего рода карикатура, трикстер
Ганина, его отрицательный двойник-пошляк, человек без принципов и нравственных устоев, составляющий непримиримый контраст и с Машенькой: «цифра и цветок» [Набоков, 1990. С. 45], как скажет Ганин об их нелепом в его представлении союзе. Алферов – еще одна ироническая аллюзия на образы русской литературы, известно, что в нем легко просматривается пародийная интерпретация князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот», что видно по схожести описания, а также по нескрываемому презрительному отношению к нему автора и особенно отмеченным евангельским чертам внешности: «Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто <…>. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах – в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф» [Там же. С. 37]. Делая свой нарочито оскорбительный выпад против Достоевского, Набоков именно Алферову как антагонисту идеям русского писателя доверяет антирусские высказывания о послереволюционной России: «А главное, – все – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже…» [Там же. С. 46].
Таким образом, по замыслу Набокова, Ганин выполняет в романе роль Homo ludens, марионетки, играющей по правилам автора, настоящего Magister Ludi, «истинное призвание которого заключалось вовсе не в том, чтобы играть новыми картами по старым литературным правилам» [Бойд, 2010. С. 292], а создавать свои правила поэтики и романной формы, где автор-субъект даже в маске героя-прототипа «научится вносить свои изменения в правила игры – отвергать, пародировать, выворачивать наизнанку саму идею экспозиции или финала романа или же придавать им функции, о которых прежде никто не помышлял…» [Там же], показывая тем самым избыточность и бесконечность игры по отношению к реальности. Но поскольку в игровом формате, как заметил Ю. Лотман, «всякое сопоставление игры и искусства ведет к проповеди чистого искусства, отрицанию связи творчества и общественной жизни» [1998. С. 71], события в романе не представлены напрямую, в них нет хронологической последовательности, что деконструирует текст, делая его антитезой реалистическому изображению, интуитивно-ассоциативная память Ганина движется вне логики и истории и направлена на реконструкцию прошлого, составленного словно из кинематографических кадров, что придает происходящим событиям характер художественной имитации. В своих метаниях между прошлым и настоящим Ганин не может скрыться от ненавистной реальности ни в прошлое, хотя и переживает его как настоящее, ни в идеальный творческий мир, что было бы эскапистской альтернативой для романтического героя. Высокое искусство подменяется его суррогатом, воплощенным в массовом кинематографе, когда на экране зритель видит не «грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет», а фальшивую, но «занимательную, прекрасно сделанную картину»; при этом «публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе» [Набоков, 1990. С. 49], что побуждает воспринимать происходящее как карнавальную игру, в ходе которой пародируется и опровергается серьезное содержание.
Интермедиальное соединение приемов кинематографа и литературы в романе позволяет усилить эффект наигранности происходящих событий, демонстрирующих двойственно-неопределенное положение Ганина, оппозицию его внутреннего состояния от невозможности обрести свою «самость», что выражается в самопародировании героя. Через кинематограф Набоков создает иллюзию зеркально отраженной реальности, ее фальшиво декорированную копию, а участие Ганина в съемках высвечивает его неподлин-но-игровой способ существования, соотносимый с лакановской зеркальной проекцией себя в мир как Другого, которому недостаточно «его природной реальности» [Лакан, 1992. С. 512], и он ищет ее замещения за порогом видимого мира, «в явлениях двойника» самого себя как эстетического объекта – актера [Там же. С. 510]: «Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди» [Набоков, 1990. С. 50]. Ганин подменяет объективный взгляд на реальность «фантазмами» кино, где все выглядит театральной бутафорией, в чем и заключается драма зеркальности, а именно – в невозможности соотнести себя с действительной жизнью и понять свою личностную идентичность.
Саморефлексия Ганина передается через его размытое дуалистическое сознание, помещенное между иллюзиями правдоподобного бытия и его фантазиями, когда стирается граница между сознанием и подсознанием героя. Он имитирует подлинность собственной жизни, манипулируя ничего значимого для него не заключающими религиозно-моральными ценностями как пешками в игре. Отсюда его полубессмыс-ленные поступки, как будто он разыгрывает представление о самом себе, используя факты собственной жизни в качестве творческого материала. Ганин не тождествен самому себе, отчуждаясь от мира, поэтому его «Я» не определяется, оно словно отсутствует, оставаясь как «форма» человека со сложнопроизносимым и редким именем, которое постоянно путается в романе: «Леб Лебович» [Там же. С. 107], и лишь потом выясняется, что у него «фамилия вовсе не Ганин» [Там же. С. 91].
Набоков делает Ганина искусственным объектом, пародией на личность, наподобие музильского «человека без свойств», но в нем присутствует и кьеркегоровский экзистенциальный тип, стоящий на эстетической стадии развития. Согласно теории Кьеркегора, положение Ганина похоже на состояние животного или ребенка, которому доступны только чувственные удовольствия, но отсутствует воля к действию: «На него нашло то, что он назвал «рассеянье воли» <…>. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья» [Там же. С. 47]. В поисках желаемого объекта Ганин также запускает механизмы подсознательного, его желания становятся источником его фантазий, которые он способен перевести лишь в речевой акт в виде признания Подтягину о несуществующем романе: «Знаете что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив» [Там же. С. 65].
Но Ганин так и не поднимается на более высокую, этическую, по Кьеркегору, ступень, предполагающую религиозное возвышение, оставаясь в состоянии бесконечного разочарования, тоски, хотя у него была возможность прорваться к желаемому им состоянию возрождения, обрести цель, чтобы выполнить свой долг и нравственный закон по отношению к Машеньке: «Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен…» [Там же. С. 58]. В своих попытках обрести индивидуацию безвольный Ганин обречен, так как он лишь играет в сверхчеловека, «сложный пасьянс» «вечного возвращения» не складывается, так как он не верит ни в какие идеи и религии, не верит, что можно вернуть прошлое. Участь его эгоистического «Я» – пребывать в бесконечном экзистенциальном противоречии с самим собой между «Оно» и «Сверх-Я», он «имеет право на существование, данное ему мировой историей, и одновременно он обречен» [Кьеркегор, 1993. С. 177], так как вынужден существовать в антагонистичных реальностях, мучаясь навязчивым гамлетовским вопросом о возможности своего существования: «быть или не быть?», «любить или не любить Машеньку?».
Психическое состояние Ганина таково, что он не ощущает цели и целостности своей жизни и окружающего мира, поэтому стимулом для него становится не возможность ницшеанского бесконечного возвращения пережитого, а бесконечное бессознательное продление воспоминаний, насыщение памятью о прошлом. Это придает ему силы на пути в никуда, в следующую вневременную бездну: «Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу» [Там же. С. 111]. Бессодержательная игра с ценностями жизни, одержимость Ганина воспоминаниями о прошлой любви передает лишь его собственные импульсы, а симуляция аффекта страсти становится выше подлинных чувств. Искусственный фантом любви преодолел желание увидеть настоящую Машеньку, которая в действительности герою была не нужна, так как он, утрачивая подобие самого себя, отказывается «от нравственного существования в пользу существования эстетического» [Делез, 1998. С. 334]. В этом случае «вечное возвращение» следует воспринимать как несуществующий проект будущего, симулякр, игру в жизнь как «власть лжи (фантаз-ма)» [Там же. С. 341], тогда и происходит низвержение мира с его ценностями и рациональными точками зрения, а человек воспринимается как симуляция, «чередование масок» [Там же].
Совершая творческий акт, Ганин «до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем. И кроме этого образа другой Машеньки нет, и быть не может» [Там же. С. 112]. Именно через игру потенциальное, заложенное в миф о «вечном возвращении», заявляет о себе в виде субъективных ассоциаций инстинктивной памяти, воплотить которые может только произведение искусства, ведь для творчества не существует временных ограничений, как в игре: «однажды сыгранная, она (игра. – Л. C .) остается в памяти как некое духовное творение… и может быть повторена в любое время» [Хейзинга, 1997. С. 28]. Автор романа подводит читателя к мысли, что в творчестве не должно быть никакого идейного содержания, соответствия жизни, а игра становится фактором высвобождения его творческого потенциала и опровержением детерминистских законов бытия, ведь «всякое искусство – обман», – говорит писатель [Набоков, 1997а. Т. 2. C. 569], в котором серьезность оборачивается игрою, не отягощенной великими смыслами.
Список литературы Идея "вечного возвращения" как игра с ценностями жизни в романе В. Набокова "Машенька"
- Айхенвальд Ю. Рец.: «Машенька». Руль. 1926. 31 марта // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 26-28.
- Андреев Н. Сирин // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 186-195.
- Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бойд Б. Набоков. Русские годы. Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. 696 с.
- Делез Ж. Платон и симулякр // Делез Ж. Логика смысла (вторая половина). М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 329-347.
- Кьеркегор С. О понятии иронии. Законность иронии с точки зрения мировой истории. Ирония Сократа // Логос. 1993. № 4. С. 176-198.
- Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в Список источников формировании функции «я» в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. Семинары. Кн. 2 (1954-1955). М.: Гнозис; Логос, 2009. С. 508-516.
- Левин Ю. Заметки о «Машеньке» В. В. Набокова // Набоков: pro et contra. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. С. 359-369.
- Лотман Ю. М. Многоплановость художественного текста // Лотман Ю. Структура художественного текста. Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998. С. 68-77.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Минск: Харвест, 2007. 1037 с.
- Носик Б. Мир и дар Набокова. СПб.: Пенаты, 1995. 552 с.
- Фуко М. Работа души // Фуко М. История сексуальности - III. Забота о себе / Пер. с фр. Т. Н. Титовой и О. И. Хомы. М.; Киев: Дух и литера; Грунт; Рефл-бук, 1998. С. 145-157.
- Хейзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М.: Прогресс-Традиция, 1997. 416 с.
- Набоков В. Машенька // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 1. 416 с.
- Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1997a. Т. 2. 672 с.
- Набоков В. В. Предисловие к английскому переводу романа «Машенька» («Mary») // Набоков: pro et contra. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997б. С. 61-63.
- Набоков В. В. Искусство литературы и здравый смысл // Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998а. С. 465-476.
- Набоков В. В. О хороших читателях и хороших писателях // Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998б. С. 23-29.