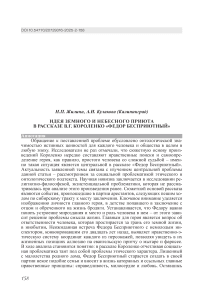Идея земного и небесного приюта в рассказе В. Г. Короленко «Федор Бесприютный»
Автор: Жилина Н.П., Кулакова А.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Обращение к поставленной проблеме обусловлено онтологической значимостью истинных ценностей для каждого человека и общества в целом в любую эпоху. Исследователи не раз отмечали, что сюжетную основу произведений Короленко нередко составляют нравственные поиски и самоопределение героя, как правило, простого человека со сложной судьбой - именно такая ситуация является центральной в рассказе «Федор Бесприютный». Актуальность заявленной темы связана с изучением центральной проблемы данной статьи - рассмотрением за социальной проблематикой этического и онтологического подтекста. Научная новизна заключается в исследовании религиозно философской, экзистенциальной проблематики, которая не рассматривалась при анализе этого произведения ранее. Сюжетной основой рассказа являются события, произошедшие в партии арестантов, следующих пешим ходом по сибирскому тракту к месту заключения. Ключевое внимание уделяется изображению личности главного героя, в детстве попавшего в заключение с отцом и обреченного на жизнь бродяги. Устанавливается, что Федору важно понять устроение мироздания и место и роль человека в нем - от этого зависит решение проблемы смысла жизни. Главным для героя является вопрос об ответственности человека, которая простирается за грань его земной жизни, в инобытии. Неожиданная встреча Федора Бесприютного с немолодым инспектором, конвоировавшим его двадцать лет назад, выявляет нравственно этическую систему координат каждого из персонажей, позволяя увидеть в их жизненных позициях аллюзию на евангельскую притчу о мытаре и фарисее. В ходе анализа становится понятно: в рассказе Короленко отчетливая социальная проблематика таит под собой проблемы этического характера. Лишенный с малолетства родного дома, Федор Бесприютный старается создать в своей партии некое подобие семьи и вносит в жизнь каторжных и ссыльных главные нравственные принципы: справедливость, милосердие и любовь. Оставшись в своей жизни бесприютным, он стремится устроить приют для кого может, безотчетно следуя высшему нравственному закону, ставшему для него главной душевной опорой в жизни.
Короленко, федор бесприютный, христианство, аксиология, дом, дорога
Короткий адрес: https://sciup.org/149148607
IDR: 149148607 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-158
Текст научной статьи Идея земного и небесного приюта в рассказе В. Г. Короленко «Федор Бесприютный»
Korolenko; Fedor Bezdyutny; Christianity; axiology; house; road.
Творчество В.Г. Короленко в литературном процессе конца XIX – начала XX в. занимало видное место, но отечественными учеными на протяжении многих лет изучалось в основном в определенных аспектах: исследователи проявляли интерес, прежде всего, к биографии писателя, его общественной деятельности, акцентировали внимание на социальной проблематике и идейной направленности произведений. Внимание к поставленным писателем этиче- ским вопросам проявлялось с начала его творческой деятельности, однако их изучение осуществлялось, как правило, лишь в связи с социальным аспектом, в то время как религиозно-философское содержание оставалось в стороне. И хотя в последние десятилетия вектор исследования изменился, остается еще немало проблем, требующих пристального рассмотрения. Рассказ «Федор Бесприютный» (1886) привлек внимание советских ученых еще в 1927 г. в связи с публикацией первой редакции текста, запрещенной в свое время политической цензурой [Полянский 1927]. В 1963 г. объектом анализа известного литературоведа и переводчика Н.А. Славятинского стал портрет главного героя в этом произведении [Славятинский 1963]. В последние десятилетия рассказ исследовался, прежде всего, в аспекте поэтики [Иванова 2009], [Фолимонов 2017] и типологии героя [Иванова, Дедюхина 2021], [Макарова 2007], [Пильд 1994], а также в связи с проблемой скитальчества [Иванова 2016]. Тем не менее, многие аспекты до сих пор остались неизученными – к ним относится и центральная проблема данной статьи: рассмотрение за социальной проблематикой этического и онтологического подтекста.
События рассказа происходят в партии арестантов, следующих пешим ходом по сибирскому тракту к месту заключения. Повествование организовано в свойственной писателю манере: основной субъект речи – близкий к автору безличный повествователь, не имеющий, однако, функции всеведения. Кроме того, важную роль как в событиях, так и в повествовательном поле играет один из персонажей – молодой образованный ссыльный Семенов (по определению арестантов – «барин»), который внимательно вглядывается во все происходящее, анализирует увиденное, строит умозаключения и делает выводы. Его слово не только звучит во внутренних монологах, но нередко включается в авторскую речь как «точка зрения» [Успенский 1970] в виде несобственно-прямых конструкций. Таким образом, авторские интенции передаются посредством двух субъектов речи: кроме повествователя эту функцию выполняет персонаж, чьи размышления, суждения и оценки становятся для читателя своеобразным аксиологическим ориентиром. Слово главного героя, номинация которого вынесена в заглавие, занимает большое место, но дается лишь во внешнем восприятии, в форме прямой речи: истории из его жизни представлены в воспоминаниях как вставные фрагменты.
В рассказе два основных места действия: проложенная в глухой сибирской тайге дорога, по которой следуют арестанты, и их временное пристанище – этап. Как отмечал в свое время М.М. Бахтин, «значение хронотопа дороги в литературе огромно», нередко именно дорожные встречи и приключения становятся основой сюжета [Бахтин 1975, 248]. В рассказе хронотоп дороги занимает большую часть сюжетного объема, но указанная его функция раскрывается не сразу. Являясь старостой партии, главный герой строго следит за тем, чтобы в пути не случилось ничего неожиданного: «Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т.д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом» [Короленко 1960, 194]. По справедливому замечанию Мартишиной, «для человека символическое значение дороги состоит прежде всего в идее перемены. Дорога противопоставляется дому, как внешнее и открытое – внутреннему и освоенному» [Мартишина 2020, 29]. Поскольку арестанты не ждут в пути ни- каких перемен своей судьбы, хронотоп дороги для них остается семантически не наполненным. Для большинства арестантов родной дом оказывается утраченным очень надолго, если не навсегда, а нынешнее состояние не сулит благополучия или радостных открытий. Отсюда – полное равнодушие ко всему происходящему и стремление поскорее добраться до следующей остановки. Издревле дорога понималась в качестве амбивалентного топоса, «одновременно соединяющего и разделяющего два вида пространств: “свое” и “чужое”» [Гусева 2003, 73]. При перемещении арестантов от тюрьмы к этапу оба топоса остаются для них «чужими». Это же можно сказать и о конечной цели движения: место каторги или ссылки не может обрести качества родного топоса, навсегда оставаясь чужой и чуждой территорией. В повседневной жизни дорога воспринимается как пространство свободы, где снимаются обычные ограничения, но в рассказе Короленко это – хронотоп неволи, мало чем отличающийся от тюремного: время трудного пути не дарует арестантам возможности отдыха от тяжелых условий заключения, именно поэтому они радуются, узнав о близости остановки – этапа.
Слово дорога употребляется в рассказе 27 раз и вначале применяется в прямом значении: как «полоса земли, предназначенная для передвижения» [Ушаков 2006, 197]. Метафорический смысл («средство достижения какой-нибудь цели» [Ушаков 2006, 197], а также «род жизни, образ мыслей, дела и поступки человека» [Даль 1955, 473]) появляется во внутренней и прямой речи центральных персонажей: «барина» Семенова и Федора Бесприютного. Обычно замкнутый и неразговорчивый, арестантский староста неожиданно открывает перед Семеновым душу, не просто рассказывая о себе, но и делясь своими сокровенными мыслями. Причиной сближения этих совершенно разных людей становятся книги, увиденные Федором в чемодане молодого человека. К удивлению Семенова, бродягу заинтересовал трактат Льюиса «Вопросы о жизни и духе». Открыв его, тот остановил внимание на одной фразе: «– Вот, – сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: – “Наш век страстно ищет веры”. Это верно, – подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, махнув головой. <…> Ну, спасибо. Эту книгу я теперича беспременно прочитаю» [Короленко 1960, 202]. При этом он упоминает о других книжках, в которых не нашел для себя чего-то самого важного. Заинтересованный необычным бродягой, Семенов начинает вникать в его идеи, задумываться над его словами и поступками и подвергать их анализу – этот прием позволяет автору обращаться к внутреннему миру главного героя посредством другого персонажа.
На следующий день при возобновлении разговора Федор спросил о вложенной в книгу фотографии – узнав, что это сестра Семенова с племянником, он задумался, а затем сообщил, что у него дома тоже остались две сестры. Обычно невозмутимый, при этом воспоминании Федор резко изменился: «Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный страстным созерцанием» [Короленко 1960, 207]. Позже читатель узнает, что он тринадцать раз бежал из заключения, объясняя это тем, что «в свою сторону хочется все» [Короленко 1960, 222]. Арестантская жизнь Федора началась рано: его матери не было в живых, когда он, еще мальчишкой, отправился за отцом в заключение. С тех пор ему не дано было познать никакой другой жизни, кроме «партионных» перемещений, заключения и побегов. Федор хорошо помнил свой первый криминальный проступок – совершенное во время побега с отцом и его товарищем воровство продуктов из чужого амбара: он тогда хотел укло- ниться, но, поняв, что не сможет помешать обессилевшим от голода взрослым, решился переступить черту. История этого первого преступления становится своеобразной иллюстрацией к его мысли о том пути, который открывается перед каждым человеком в его детстве: как пастух гонит непослушного теленка, не давая ему сойти с дороги, так «и с человеком все равно. Только бы с малых лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установили, – не собьется» [Короленко 1960, 208].
Федор Бесприютный резко отличается от других арестантов не только своей внутренней силой и организаторскими способностями, но и – главное – живостью ума, стремлением вникнуть в сложные проблемы бытия, уловить принципы установленного свыше миропорядка. Главный вопрос, который волнует героя, – о предопределенности той «линии», с которой начинается любой жизненный путь. Рассуждая об этом, он сравнивает будущее, ожидающее разных детей (семеновского племянника – и шестилетнего Мишу, который вместе с матерью и новорожденным братиком направляется к отбывающему наказание отцу-поселенцу), – и проецирует на свою жизнь: «… племянник-то ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на дорогу, научат, и пойдет он себе жить благородно, по-божьему. А вот Мишка, с которым вы сейчас шли, с малых лет все по тюрьмам да на поселении. Так же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом, да как мать померла, я, может, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слыхал. Откуда мне было в понятие войти?» [Короленко 1960, 208] Так возникает в рассказе тема предопределения (судьбы, которая уготована человеку свыше), и проблема его собственного выбора.
Оглядываясь на свой жизненный путь, Федор раздумывает над вопросами: от кого зависит дорога жизни каждого человека? Кто ее устанавливает, и почему одному достается на долю спокойная безбедная жизнь, а другой с рождения ее лишен? Если же ребенок не выбирал себе жизненный путь, если обстоятельства помимо его воли сложились так, что ему пришлось нарушить закон, должен ли он в полной мере нести за это ответственность? Из его диалога с Семеновым становится ясно, что Федор имеет в виду не юридический, а нравственный закон, проявлением которого в душе человека является совесть. Душу Федора особенно тяготит убийство полубезумного старика, хотя и совершенное им в целях самозащиты, ради собственного спасения: «И по сию пору, бывает, старик этот не дает мне покою. Потому что, не иначе, думаю я, только что был он тогда вроде как в горячке. А я его, больного человека, убил… Как же теперь, по вашему-то: должон я за это отвечать или нет?..» [Короленко 1960, 213–214]. Важно заметить, что эта проблема волнует Федора не в утилитарном, житейском, а в философском, экзистенциальном смысле, поскольку она напрямую ведет к идее высшей справедливости, связанной с вопросом о существовании иного мира и – соответственно – высшего суда. Таким образом, главным для героя является вопрос об ответственности человека, которая простирается за гранью его земной жизни, в инобытии. Федору важно понять устроение мироздания и место и роль человека в нем – от этого зависит решение вопроса о цели и смысле жизни. Крестьянин по происхождению, сибирский бродяга оказывается в одном ряду с самыми знаменитыми героями русской литературы, для которых главной была проблема смысла жизни.
Перемена, произошедшая с Федором во время разговора о родных, показывает, что для него на земле нет ничего более важного, чем семья – воспоминание о ней является своеобразным якорем, удерживающим его в бродяжьей жизни. Особенно ярко раскрываются жизненные ценности героя во время неожиданной встречи на этапе, где партия остановилась на ночевку: немолодой инспектор, узнавший Бесприютного, которого конвоировал двадцать лет назад, подошел к нему, «с очевидным намерением удостоить бродягу благосклонным разговором» [Короленко 1960, 219]. Пройдя за это время путь от прапорщика до полковника, он мог с удовлетворением подвести итоги, а жизнь Федора, по-прежнему остающегося «в том же сером халате, с тем же тузом на спине» [Короленко 1960, 221], оказалась для него выигрышным фоном: «И старик инспектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при начале пути, дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картежник, как многие другие. А исполнив все это, он спокойно сомкнет глаза перед последним часом, потому что и там, в другом мире, его формуляр – в этом он твердо убежден – заслужит полное одобрение» [Короленко 1960, 220]. С самодовольным чувством искреннего сожаления к несчастному, незадачливому бродяге полковник стал объяснять, что на родине того давно никто не ждет и надежда на это для него потеряна навсегда. Эта встреча не только становится для Федора доказательством неизменности его собственной судьбы, но и подтверждает его мысль о той «линии», которая определяет всю жизнь юного человека. Убедительной демонстрацией этой идеи является и играющий во дворе этапа с собакой младший сын полковника, семилетний Вася, которого, судя по всему, тоже ждет благополучное будущее.
Как указывал М.М. Бахтин, мотив встречи еще с древности играл важнейшую роль в сюжетах «не только романов разных эпох и разных типов, но и литературных произведений других жанров» [Бахтин 1975, 247]. Во многих сюжетах, как известно, именно встреча нередко является тем центральным событием, которое становится ситуацией испытания для героя. Утвердив Федора в незыблемости установленного им принципа, эта встреча полностью преображает его: «Когда отец и сын направились к выходу, Бесприютный провожал их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стиснутыми зубами» [Короленко 1960, 224]. Ночью Семенов проснулся, оттого что «в камере кто-то плакал, как-то дико и с причитаниями» [Короленко 1960, 225] – это был голос Бесприютного, который невозможно было узнать. «Это не был плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося горя. Это был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гробовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга» [Короленко 1960, 225–226]. Когда же к Федору подошел старый товарищ его отца по прозвищу Хомяк со своим обычным увещеванием «Терпи, Федор, терпи, паренек. Ничего не поделаешь», тот яростно закричал на него и стукнул «кулаком по нарам так, что дерево затрещало» [Короленко 1960, 227]. Потом в его руке блеснул нож, и завязалась борьба. «Федор рвался и бился, как бешеный зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво боролась с одним человеком» [Короленко 1960, 227]. Наконец Федора связали и уложили на нары. В этой – кульминационной – ситуации обнаруживается новая грань личности героя – его бунтарское начало. Удивлявшая ранее Семенова в арестантах покорность обстоятельствам здесь полностью исчезла, уступив место гневу и возмущению. Подобно герою античной трагедии, русский бродяга выразил свой протест против всесилия Судьбы, готовый даже покончить с собой, но не покориться. Через несколько часов, когда Федор успокоился, его развязали. Семенов видел, что Бесприютный всю ночь просидел на ступенях крыльца, опустив голову и не шевелясь. Душевное состояние главного героя открывается читателю через раздумья молодого ссыльного, испытывающего острое сочувствие к бродяге и стремящегося понять его переживания.
Во время этой встречи раскрывается настоящая фамилия Федора – Панов, тогда как на всем протяжении событий его называют только по прозвищу, которое точно отражает суть его бродяжьей жизни – Бесприютный. Слово приют в русском языке толкуется как «пристанище, прибежище, место, где можно спастись от чего-н. или побыть и отдохнуть» [Ушаков 2006 , 798]. Дом (в значениях семья и родной край ) всегда был для Федора тем приютом , который обещал возможность отдыха и спасения от неустроенности, тоски и одиночества бродяжьей жизни. Поставив под сомнение наличие такого пристанища, «добряк полковник» [Короленко 1960, 219] поколебал главный стержень души героя, а усомнившись в существовании высшей справедливости, небесного дома , тот ощутил свою полную бесприютность в огромном мире.
Как дорога не становится для арестантов топосом свободы, так и помещение этапа, лишенное признаков родного – укрывающего и защищающего – пространства, представляет собой только казенный , то есть ложный дом. После всего произошедшего глядящему из окна Семенову этапный двор, огороженный столбами частокола, угрюмый и неприветливый, кажется «какой-то коробкой», на которую темнота налегла сверху «плотной непроницаемой крышкой» [Короленко 1960, 230]. В этом ограниченном, замкнутом пространстве царствует мрачная темень, а свод небес со светлым облачком, улетающим ввысь, как будто существует отдельно, не связанный с этой земной территорией. Как верно отмечает С.С. Фолимонов, в рассказах Короленко о бродягах «небо – один из главных пейзажных мотивов», однако в этом произведении «вербализованный образ неба появляется лишь однажды, в самом конце главы» [Фолимонов 2017, 442], в описании наступающего утра: «Небо засинело, стало прозрачнее … Мир сверху раздвигался, маня синим простором» [Короленко 1960, 233]. От утренней прохлады Федор очнулся и посмотрел на небо – этот взгляд обозначил рубеж между тьмой и светом, смертной тоской и жизнью. В финале рассказа привычный уклад восстанавливается, и староста арестантской партии снова начинает заниматься своими обычными делами: «Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили надежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как те облака, что бежали в синеве небес…» [Короленко 1960, 235]. Пережитое глубокое потрясение не становится причиной для кардинальных изменений в жизненной позиции Федора: он продолжает заботиться о своих подопечных, грея молоко для «партионного» младенца и давая возможность уснувшему лишь под утро «барину» Семенову поспать подольше. С малолетства лишенный родного дома, Федор Бесприютный старается создать в своей партии некое подобие семьи, следя за тем, чтобы никто не оказался обделен едой, а слабые и немощные не были обижены. В жизнь каторжных и ссыльных, живущих по своим, отличным от воли, моральным законам, он вносит главные нравственные принципы: справедливость, милосердие и любовь. Оставшись в своей жизни бесприютным, он стремится устроить приют для кого может, безотчетно следуя высшему нравственному закону, ставшему для него главной душевной опорой в жизни.
Написанный в 1886 г., рассказ «Федор Бесприютный» не был допущен к печати цензурой «по причине “морального превосходства каторжника” над жандармским полковником» [Соколова 1960, 439]. Через два года рассказ был опубликован в значительно сокращенном и переработанном автором виде под другим названием – «По пути (Святочный рассказ)» [Короленко 1960, 1914]. В этом варианте почти полностью были устранены размышления главного героя о мироздании, о жизненной дороге человека, определяемой с детства, исчезла часть воспоминаний, связанная с убийством встретившегося в лесу старика, – таким образом, философская сторона в его беседах с политическим ссыльным была серьезно редуцирована. Был устранен также портрет Федора с его характеристикой. Все это привело к тому, что образ главного героя подвергся серьезной трансформации: исчезла психологическая глубина и сложность характера, его личность предстала значительно упрощенной. При переработке были также существенно смягчены главные черты, определявшие характер полковника, – самоуверенность и тупое сытое самодовольство. Таким образом, была устранена основа художественного конфликта, который в первой редакции имел не социально-психологический, а аксиологический характер – столкновение противоположных жизненных позиций, в котором просматривалась аллюзия к евангельской притче о мытаре и фарисее (Лк. 18: 10–14). Проживший жизнь в соответствии с определенными житейскими установками и достигший земного успеха, полковник по-фарисейски твердо пребывает в убеждении, что «и там , в другом мире, его формуляр … заслужит полное одобрение» [Короленко 1960, 220]. В то же время страдающий от своих грехов, мучимый совестью бродяга облегчает душу в покаянии перед другим арестантом и в поисках веры обращается к «умным» книжкам, стремясь найти в них ответы на сложные вопросы о Боге и вере.
Хотя сюжет рассказа «Федор Бесприютный» имеет моноцентрический характер и в центре внимания автора – личность главного героя, однако перед читателем, хотя и эскизно, проходят и судьбы других заключенных. Кроме детских персонажей, это безучастный ко всему Хомяк, в престарелом возрасте подвергшийся унизительному наказанию за какую-то провинность; молодая арестантка, недавно ставшая матерью и только догадывающаяся о том, кто отец ее ребенка; почти обезумевший от голода и лишений старик, трагическая встреча с которым в лесу осталась для Федора страшным воспоминанием. Таким образом, текст первой редакции рассказа дает основания для достаточно широких обобщений: если в обычной жизни «… отправиться в дорогу … – это единственный способ что-то найти, обрести, прийти к чему-то» [Мартишина 2020, 30], то дорога, по которой идут эти изгои общества, не ведет никуда и не сулит впереди никаких радостных открытий. В биографии арестантов дом и дорога – это полярно противоположные понятия: лишившись дома в детском, юном или молодом возрасте, они больше никогда его не обретут. Вечная бесцельная дорога становится их уделом, и никто из них не может найти настоящий приют в этом мире. Однако в рассказе Короленко отчетливая социальная проблематика таит под собой вопрос нравственного характера: может ли наличие материального дома предотвратить оскудение души? Как показывает автор, единственная возможность для любого человека устоять в этом жестоком мире и сохранить свою душу – это обрести тот самый небесный приют , который нашел для себя герой рассказа Федор по прозвищу Бесприютный.