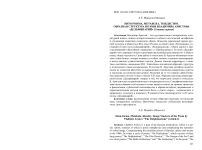Idem-forma, метабола, тождество. Образная структура поэмы Владимира Аристова "Дельфинарий". Статья первая
Автор: Масалов Алексей Евгеньевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Владимир Аристов - поэт русскоязычного метареализма, литературной школы, поиски которой находятся в области поэтической метафизики и усложнения семантики словесного образа. Осмысляя переходный период русской культуры и общества в 80-е годы XX века, он пишет цикл «Реализации», состоящий из трех поэм («Дельфинарий», «Кинорежиссер», «Омега моря») и двух стихотворений («Балтийские отражения» и «Пробуждение»). В поэме «Дельфинарий» поэт выражает поиски «пространства всеобщей родственности» и общего языка, общей телесности. Свою работу в этом ключе В. Аристов обозначает понятием «idem-forma», которое означает и особую технику создания стихотворений, и метод анализа художественных текстов. Данное понятие коррелирует с понятием «метабола», введенным М.Н. Эпштейном для анализа образной структуры и поэтического языка метареализма. В поэтике В. Аристова метабола является одним из элементов idem-form'ы, выражающим отношения синкретизма, синтеза и тождества на тропеическом уровне. Несмотря на то что термин «idem-forma» был предложен поэтом только в начале XXI века, образная структура анализируемой поэмы «Дельфинарий» говорит о том, что творческие поиски в этом русле В. Аристов ведет на протяжении всего литературного пути. Специфическими чертами использования этой техники в поэме является синтез на уровнях хронотопа и фокализации, субъектный неосинкретизм и образы-метаболы, выражающие и пересемантизацию деталей советского быта, и синтез миров - человеческого и природного, телесного и языкового. В данной статье анализируются I и II части поэмы «Дельфинарий».
Русскоязычная поэзия, образная структура, поэтический язык, метареализм, метабола, тождество, субъектный неосинкретизм, синтез пространств
Короткий адрес: https://sciup.org/149127433
IDR: 149127433
Текст научной статьи Idem-forma, метабола, тождество. Образная структура поэмы Владимира Аристова "Дельфинарий". Статья первая
В восьмидесятые годы XX века происходит смена культурных парадигм, трансформируются механизмы словопреобразования в русском поэтическом языке. Так, поэт-метареалист В. Аристов пишет: «...в 80-х мы выходили в то, что можно было назвать первыми признаками чувства - отрешения от омертвления и наркоза реальной душевности и телесности» [Аристов 2017, 61]. Метареализм как поэтическая школа новой субпарадигмы художественности стремился преодолеть инерцию подцензурной литературы посредством усложнения семантики словесного образа за счет обращения к гностической метафизике.
Результатом осмысления В. Аристовым (поэтом и одним из теоретиков данной школы) этого периода явился цикл «Реализации», состоящий из трех поэм («Дельфинарий», «Кинорежиссер», «Омега моря») и двух стихотворений («Балтийские отражения» и «Пробуждение»), Первым текстом была создававшаяся с 1982 по 1985 годы поэма «Дельфинарий», которая, по словам поэта, была «“фрагментарием” жизни 80-х, которая устала ждать в бесконечных обесточенных, обезвоженных пространствах и просила дать ей возможность создать нечто общее и невыразимо - пока невыразимо - сильное, что подобно общему языку, телу и человеческому будущему» [Аристов 2017, 62]. В данной статье мы проведем анализ образной структуры первых двух частей этой поэмы.
Уже в заглавии и посвящении («Дельфинарий» и «Посвящается Оружейным баням» [Аристов 2016, 197]) выражается эта общность, синтез различных пластов художественной реальности через тождество двух пространств: дельфинария и оружейных бань. О слиянии различных дискурсов говорят и два эпиграфа, взятые из текстов разных функциональных стилей: один из «Словаря иностранных слов» (1954) («Дельфин - морское млекопитающее из подотряда зубатых китов, служит предметом промысла, его сало идет на выработку жиров, шкура дает прочную кожу, плавники и хвост - клей» [Аристов 2016, 197]), а другой из стихотворения ТС. Элиота «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока», причем цитата дается на языке оригинала:
Let us go then, you and I...
[Аристов 2016, 197]
Первые строки I части поэмы Аристова также отсылают к указанному тексту. Однако затем возникает иной сюжет, в котором задается сложная система отождествлений между разнородными пространствами:
И в переулке
За водной гладью воздуха Расстанемся
Здесь по сторонам решетки, Где кладбище осенних самолетов -Обезображенной случайно кленовой жести. [Аристов 2016, 197]
Подобный прием создания «структур отождествления», изобретенный В. Аристовым, обозначается им же понятием «idem-forma», оглашенным в 2003 году [см.: Фещенко 2017, 59; Аристов 2004]: «“Idem-forma” - это фигура поэтического изображения (и элемент нового миропонимания), где не только уходит двойственность, уже преодолеваемая метаболой, но создается эффект отождествления с другим и в другое, где единичное уникальное раскрывается через множественное» [Аристов 2004, 129].
Понятие idem-forma коррелирует с понятием метабола, введенным М.Н. Эпштейном для анализа метареалистического словесного образа [см.: Эпштейн 2005, 152-155, 177-184]. В современной филологии под метаболой понимается такой тип контаминирующего тропа, в котором за счет механизма реализации метафоры могут возникать отношения синкретизма, синтеза и тождества разнородных явлений [см.: Парщи-ков 2006, 28-29; Северская 2007, 65; Зейферт 2016; Масалов 2017; Маса-лов 2019]. Основываясь на эссеистике В. Аристова, В. Фещенко считает, что idem-forma - это «расширение термина метабола, ее “теологическое острие”», а также «техника создания стихотворений» [Фещенко 2017, 61]. В этом смысле понятие «idem-forma» оказывается шире, чем понятие «метабола». Так, в эссе «“Idem-forma” и границы миметического метода в современной поэзии» В. Аристов в связи с концепцией «внутреннего пластического театра» пишет: «В воплощении “idem-forma” образы становятся проницаемыми, единицы-эйдосы не исчезают, но границы размыты и разомкнуты, эти сущности собирают границы свои в охапку и множат, и играют ими, их грани становятся невероятными бесконечномерными плоскостями нового многогранника» [Аристов 2012, 307].
Таким образом, можно говорить о том, что idem-forma - это особая техника, литературный прием, основанный на поэтической онтологии и метафизике метареализма и индивидуальной рецепции этих поисков В. Аристовым. Idem-forma обеспечивает отношения тождества, синтеза или синкретизма не только на тропеическом уровне, но и на уровне субъектов, хронотопа, поэтического синтаксиса, ритмической и, возможно, даже фонетической организации стихотворения. Иными словами, данная техника задает установку на создание «структур отождествления» во всей образной организации художественного произведения, и метабола в этом случае оказывается только одним из способов создания такого тождества.
Данная установка на создание «структур отождествления» как раз и выражается в синтезе различных пространств в процитированных выше строках: метабола «в переулке / За водной гладью воздуха» объединяет семантические поля улицы и дельфинария и подготавливает читателя к смысловому содержанию поэмы. Метафора «решетки» может интерпретироваться и как забор во дворе, и как клетка с дельфинами на основе ассоциаций, заданных заголовочным комплексом. Возможны и более сложные ассоциации, связанные с восприятием тела как клетки души. В связи с этим образ «кладбища осенних самолетов», понимаемый как падающая листва за счет следующей за ним строки, также развивает синтез природного и человеческого, который раскрывается в следующих строках:
Ты скрылся в последнюю арку, И я губы обвел изнутри языком, И язык мой недвижно лег, К зубам припав головою.
Ты мелькнул, как дельфин со свирепым лицом, С огоньком сигареты
Уходя ночною Москвою.
И язык мой, блеснув,
Ушел вглубь меня, Пробираясь по крови С фонариком речи. [Аристов 2016, 198]
В сравнении «как дельфин со свирепым лицом» выражается субъектный синкретизм (лирическое «ты» постепенно отождествляется с персонажем-дельфином). Точнее стоит называть это явление «субъектный неосинкретизм», так как, по сути, оно представляет собой возрождение архаичных форм субъектной организации [см.: Малкина 2019]. Образ языка в первой из процитированных строф раскрывается в третьей, при этом за счет образа «фонарика речи» он наделяется синсемией («совмещение нескольких значений многозначного слова в одном употреблении» [Изотов 1998, 86]), совмещая значение и органа, и знаковой системы. Иными сло- вами, телесность становится способом коммуникации, что раскрывается в следующих строках:
Выходи на поверхность, дельфин, Это тело твое проступило во тьме Еще ранних сырых переулков, И из влажной глуби Твоей и моей
Шел голос морской.
[Аристов 2016, 198]
Переход от сравнения субъекта с дельфином к отождествлению с ним так же свидетельствует о том, что дельфин - это Другой человека в рамках данной поэмы, ведь отождествление Я и Другого является одной из характерных черт поэтической философии метареализма. В статье «“Тот человек в человеке...” (метод Idem-forma и поэтика Другого)» В. Аристов об этом пишет следующее: «Внутренний человек и Другой способны соединиться. И метафора как новое слово в структуре метаболы обретают смысл в понятии отождествления. В ней есть возможности, где нет противоборства как безысходного сражения с самим собой - в этом условие их совместного существования. Другой и “внутренний человек” (вовлеченные в действие внутренним пластическим театром) отождествляются посредством idem-forma» [Аристов 2006, 1125]. Ориентация при анализе на авторские метатексты позволяет и определить степень реализации творческих установок, и дать более точную интерпретацию актуального поэтического произведения с его высокой степенью метаязыковой и мета-поэтической рефлексии.
На основе отождествления Я и Другого возможна метабола «из влажной глуби / Твоей и моей / Шел голос морской», задающая абстрактный хронотоп, упраздняющая границы между внешним и внутренним и объединяющая в одном образе семантические поля телесности и языка. Абстрактность этого синтетического хронотопа усиливается в последней строфе I части:
Стрекотал в фонтане дельфин
С медным плещущим мундштуком во рту, Застыв перед входом
У зашторенных иллюминаторов глаз.
[Аристов 2016, 198]
Образ дельфина в фонтане вызывает ассоциации с фонтаном «Дружба народов» на ВДНХ, частом месте прогулок советского человека, ведь трубки во рту этих скульптур действительно похожи на мундштуки. Данный нюанс говорит о пересемантизации деталей советского быта, так как образ «медного мундштука» воспринимается в контексте образа «огонька сигареты» из предыдущих строк, также как «иллюминаторы глаз» с «кладбищем осенних самолетов», что говорит о специфике создания «структур отождествления» между пространствами, предметами и деталями. Подобным способом «общая телесность» как ключевой концепт поэмы, выраженный в семантике тождества, создается не только в хронотопической парадигме, но и на уровне фокализации, уровне «кадронесущих сегментов речи» [Тюпа 2004, 30]. При этом образ «дельфина с медным мундштуком» является тождественным образу живого дельфина, Другого для человека, что говорит об «оживлении» этой реалии советского быта.
Таким образом, в I части обнаруживается специфика образной структуры поэмы: синтез на уровнях хронотопа и фокализации, субъектный неосинкретизм и образы-метаболы, выражающие пересемантизацию деталей советского быта и синтез человеческого и природного, телесного и языкового миров.
Тема поэмы перекликается со стихотворением ТС. Элиота, использованным в качестве прецедентного текста в эпиграфе и первых строках. И если «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» посвящена духовному кризису интеллигенции начала XX века [см.: Толмачев 2011, 18-20], то в «Дельфинарии» эта проблема трансформируется в тему духовного поиска в конце XX века, которая, согласно самому В. Аристову, раскрывается следующим образом: «Дискредитированные и осмеянные “дельфины” или люди - пытались, оказавшись в общем невероятном языке, составить новую телесность, но кто им мог поверить и услышать их. Проблема соединенности физической, соприкосновения через язык - это было не только реализацией проекции из будущего, но и постоянное восстание образов настоящего, словно морские брызги, поднимающиеся вверх...» [Аристов 2017, 61]. Следование авторской интерпретации тут необходимо, так как при понимании общего смысла мы анализируем именно образную структуру произведения.
Следует учитывать тот факт, что в христианской традиции «дельфин мог символизировать Христа или церковь как спасителей человечества» [Пчелов 2017, 95]. Это усиливает тему духовного поиска, заложенную в поэме посредством синтеза телесного и языкового, и с особенной конкретностью раскрывается в следующей части поэмы:
Кто слышал крик дельфина?
Я не слышал...
Кто дешифровывал в ночи их голоса
Из влажной донаучной тьмы
Родного переулка,
Кто с ними говорил на эсперанто междометий?
И погружаясь с головою В поддельные осциллограммы Их голос на руках вздымал?
Но разве мы там его ищем?
[Аристов 2016, 199]
Вопросительная интонация этого фрагмента усиливает мотив поиска того самого «общего языка», который, по видимости, отсылает к экспериментам этологов Билла Эванса и Джарвиса Бастиана (1964-1968 гг), коррелируя с возникающим мотивом утраты. Яркий образ «эсперанто междометий», отсылающий к социальному содержанию поисков «общего языка», в соединении с метаболами «влажной донаучной тьмы / Родного переулка», «погружаясь с головою / В поддельные осциллограммы» реализует синтез научной и метафизической картин мира, обнажая неверное направление поисков этого языка во вне, так как общность обнаруживается внутри:
Плещется в нас ночной дельфинарий, Не усидеть у окошек его.
Выйдем к внешнему морю, Где мы плыли без глаз. Где оголенные спали У раскаленных вод И нараспев считали Длинный перечень лет.
[Аристов 2016, 199]
Метабола «ночной дельфинарий», синтезируя внешнее и внутренне пространство, задает систему тождеств в мотивах старения, обнаженности перед лицом природы, которые плавно перетекают в синтез пространства Оружейных бань и дельфинария:
Ах эти бани -
Вот наш забытый сад морской...
Как описать их?
В предбанной ночи сохнут полотенца, Их махровые пальцы залетают в мир, И мыло прижав к самой груди, По переулкам шли мы, как в мастерские.
Мастеровые или лингвисты
С языками, спрессованными из бронзовых мелких опилок,
Все мы стеклись во тьме в Оружейные бани. [Аристов 2016, 200]
Фантасмагорический пейзаж «Оружейных бань» связан с прототипом, реальными банями на Оружейном переулке, одним из самых старых зданий данного назначения в Москве, снесенными в начале XXI века. Видимо, архаичность постройки позволяла видеть в них не только центр досуга, но и пространство, в котором могут отождествляться различные начала. Поэтому синтез этого пространства с «забытым садом морским» и образ «предбанной ночи», отсылающий к особому «банному дню», также говорят о пересемантизации деталей советского быта в рамках поэмы, а определение «забытый» развивает мотив утраты, который раскрывается в следующих частях.
Образ мастерских выражает то ли ремонтные, то ли художественные мастерские, сравнение с которыми усиливает абстрактность и синтетичность хронотопа, в котором уравниваются «мастеровые» и «лингвисты» посредством материализованного образа языков, «спрессованных из бронзовых мелких опилок». При этом субъектный неосинкретизм усиливается дейксисом «все мы».
Итак, в поэме «Дельфинарий» с помощью техники idem-forma и образов-метабол возникает отождествление различных пространств, субъектный неосинкретизм и синтез человеческого и природного, телесного и языкового миров. В проанализированных I и II частях появляется и мотив утраты связи между Я и Другим («человеком» и «дельфином» в рамках данной поэмы). Описанию этой утраты и восстановления связи будут посвящены другие части поэмы, анализ которых будет продолжен в следующей статье.
Таким образом, «Дельфинарий» (так же, как и другие произведения этого периода: книга стихов И. Жданова «Портрет», «Невенок сонетов» А. Еременко, поэмы А. Парщикова «Новогодние строчки» и «Я жил на поле Полтавской битвы» и др.) является программным текстом возникающего нового поэтического языка, поэтического языка метареализма, который посредством синтетической образности решает художественные задачи создания «пространства всеобщей родственности».
Список литературы Idem-forma, метабола, тождество. Образная структура поэмы Владимира Аристова "Дельфинарий". Статья первая
- Аристов В. «Idem-forma» и границы миметического метода в современной поэзии // Новый метафизис. М., 2012. С. 301-310.
- Аристов В. «Тот человек в человеке...» (метод Idem-forma и поэтика Другого) // Семиотика и Авангард: Антология. М., 2006. С. 1117-1126.
- Аристов В. 80-е: Агония времени и «усилие воскресения» // Комментарии. 2017. № 31. С. 59-65.
- Аристов В. Возможности «внутреннего изображения» в современной поэзии и поэтике // Поэтика исканий, или Поиск поэтики. М., 2004. С. 124-131.
- Аристов В. Дельфинарий // Аристов В. Открытые дворы: стихотворения, эссе. М., 2016. С. 197-213.
- Зейферт Е.И. Метафора как индикатор проявления дословесного // Корма-новские чтения. Вып. 15. Ижевск, 2016. С. 358-370.
- Изотов В.П. Параметры описания системы способов русского словообразования. Орел, 1998.
- Малкина В. Субъектный неосинкретизм в российской лирике ХХ века: проблемы типологии и анализа // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2019. T. 78. № 3. C. 33-38.
- Масалов А.Е. Метабола Алексея Парщикова // Ученые записки Орловского государственного университета. 2017. № 2 (75). С. 137-143.
- Масалов А.Е. Семиотика метаболы. Статья 1: Семантика // Ученые записки Орловского государственного университета. 2019. № 1 (82). С. 122-126.
- Парщиков А. Рай медленного огня. М., 2006.
- Пчелов Е.В. Символика дельфина: от Античности к Московскому царству // Мир животных в мифопоэтическом ракурсе. Vicenza; Москва, 2017. С. 8398.
- Северская О.И. Язык поэтической школы: идиолект, идиостиль, социолект. М., 2007.
- Толмачев В.М. Т.С. Элиот // Вестник ПСТГУ Серия III: Филология. 2011. № 1 (23). С. 7-64.
- Тюпа В.И. Структура художественного текста // Теория литературы: в 2 т. Т. 1 / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. С. 26-43.
- Фещенко В. Esse-homo: Аристов-эссеист // Владимир Аристов. Статьи и материалы. М., 2017. С. 50-66.
- Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. М., 2005.