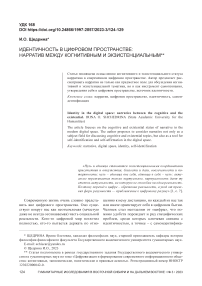Идентичность в цифровом пространстве: нарратив между когнитивным и экзистенциальным
Автор: Щедрина И.О.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению когнитивного и экзистенциального статуса нарратива в современном цифровом пространстве. Автор предлагает рассматривать нарратив не только как предметное поле для обсуждения когнитивной и экзистенциальной тематики, но и как инструмент самопознания, утверждения себя в цифровом пространстве, источник идентичности.
Нарратив, цифровое пространство, идентичность, самоидентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/170200008
IDR: 170200008 | УДК: 168 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-3/124-129
Текст научной статьи Идентичность в цифровом пространстве: нарратив между когнитивным и экзистенциальным
« Нуль и единица становятся экзистенциальными координатами присутствия и отсутствия, близости и дали, вовлеченности и потерянности: нуль ‒ единица вне себя, единица в себе ‒ нуль: актуально переживается только виртуальное, виртуальность дает ту степень актуальности, на которую не способна ни одна реальность. Поэтому переход к цифре ‒ обретение реальности, а уход от прежних форм разумности — приближение к цифровому разуму » [1, c. 7].
Современную жизнь очень сложно представить вне цифрового пространства. Оно существует вокруг нас как неотъемлемая (зачастую даже не всегда осознаваемая) часть социальной реальности. Кого-то цифровой мир поглотил полностью, кто-то пытается держать по отно- шению к нему дистанцию, но каждый из нас так или иначе ориентирует себя в цифровом бытии. Человек стал неотделим от «цифры», что помимо удобств порождает и ряд специфических проблем, среди которых ключевая связана с идентичностью, а точнее – с самоидентифика- цией личности. В самом деле, если взглянуть с исторической точки зрения, то самоопределение индивида зависело по большей части от внешних обстоятельств ‒ пол, место рождения, семья, род занятий, сословная и религиозная принадлежность и т.д. Идентичность – это динамический феномен, человек не перестает искать себя всю жизнь, и параметры этого поиска задаются тем, в каком круге общения (сфере разговора) он живет. «Этот поиск происходит вдоль границы эмпирического и трансцендентального, в той области смешения и игры, которая как раз и активизирует необходимость постоянного различения и выбора, необходимость выработки вкуса и позиционирования себя в качестве эксперта. Наша идентичность в современном медиаполе задается именно таким образом, поскольку мы предъявляем себя вместе с готовым набором оценок и преференций, выставленных вперед в форме наших подписок, постов, перепостов, “лайков” и пр. Выбор и вкус в значительной мере опираются на память, поскольку она позволяет различать новое и старое, другой важнейшей опорой служит нарратив, поскольку он позволяет придать определенный смысл смене старого и нового, и тем самым возвести актуальность или, наоборот, древность в ранг подлинной меры, основания для суждения» [1, c. 79].
Проблема идентичности, философская по сути, очень ярко представлена в классических трудах Декарта, который искал ответ на вопрос о том, что есть «Я» в контексте своего времени: он говорил о проблеме бытия, предполагающей раскрытие и обоснование того, что на самом деле существует, а что только кажется. Однако, будучи погруженным в цифровой контекст, рассмотренный сквозь призму нарратива, этот поиск обретает новые грани, со своими рисками и тупиками. Декарт решал острую для Нового времени проблему: он искал путь к подлинному бытию человека в мире1. Цифро- вые технологии резко расширили этот мир для современного человека: он получил свободу в выражении себя самого, а главное ‒ в реализации собственных представлений о себе. Он меняет имена, возраст, образ, инструментарий. Создаются образы в компьютерных ролевых играх, бесчисленное множество анкет и аватаров в социальных сетях, активизируются совместные действия на форумах, множатся тематические коллективы и сообщества. И каждый раз человек может выступать не как «Я», не от имени, которое получил при рождении, но под «ником» Другого, каким хочет видеть себя в тот или иной момент времени. Фактически человек, включенный в цифровое пространство, получил возможность проводить над самим собой своего рода «мысленный эксперимент» по «вживанию» в различные «идентичности». Он, как Sartor Resartus Т. Карлейля, примеряет на себя внешние социальные одеяния, за которыми скрывается… что? Карлейль полагал, что «божественная сущность», но современный человек, которому весь ХХ в. твердили, что «Бог умер», уже не в состоянии ответить на этот вопрос. Он включен в процесс «нико-образова-ния» и, чтобы выйти из него, должен вернуться к самому себе. Декарт полагал, что для признания своего существования Я нужен акт мысли. Сегодня мы добавляем: для признания Я в виртуальном пространстве нужен акт нарра-ции. Скрепляющий компонент для мысленного эксперимента в цифровой реальности будет задаваться самим пользователем: это нарратив, рассказываемая история.
Открывшаяся свобода самовыражения в цифровом пространстве – большая иллюзия, на самом деле она оборачивается для человека большой зависимостью. Каждый раз, примеряя новый образ-ник, человек должен создать и его историю (легенду), и чем более длинную и логически связанную историю он может сочинить для этого ника, тем более жизнеспособным становится этот образ в Интернет-пространстве. А для создания истории нужны слова, связанные друг с другом в последовательности. Тем самым, создавая «чужой» для своей внутренней идентичности ник, человек создает для себя параллельный словесный мир. И не просто создает его, но должен удерживать этот мир в памяти.
проблеме человеческой экзистенции и в медийной нарратологии, и в эпистемологии, и в контексте современных когнитивных исследований.
Развернутая как цепь последовательностей история представляется описанием событий: игра в самого себя, если бы человек был Другим. Проводимая в чате, на форуме, в соцсетях, она реализуется не в пустоте: виртуальное пространство состоит из множества микроколлективов. Следующий завету Дельфийского храма, человек сегодня может пробовать самые разные формы идентификации, а цифровое пространство делает этот процесс более быстрым и эффективным. Цифровые технологии резко увеличили скорость связывания людей в сообщества. Если раньше для общения друг с другом нужно было в реальности идти на работу, к друзьям, в общества по интересам, то сегодня для попадания к «своим» достаточно только включить компьютер или смартфон и войти на желаемый сайт, форум или в социальную сеть.
Самопознание будет буквально реализовываться как мысленный эксперимент со своей идентичностью. Причем это не будет длиться равномерно во времени, как это происходило, например, в Античности или в Средние века (по мере взросления и приобретения человеком нового социального опыта), но будет происходить значительно быстрее. Придавая характеристики виртуального этому опыту, цифровое пространство стимулирует таким образом саморефлек-сию. Не последнюю роль в данном процессе играет и «бытовая» интернет-анонимность. Примеряя на себя различные идентичности, человек зачастую становится тем, кем никогда бы не рискнул быть в реальном мире. А считывая реакции других пользователей, он одновременно познает и себя, собственные реакции на эксперимент и на внесенные изменения (начиная от внешних изменений, как в случае с фотографией на личной странице, и заканчивая изменениями социальными и, например, выбором определенной, несвойственной ранее модели поведения).
Разумеется, у нарратива такого рода будет присутствовать оборотная сторона: человек может создавать образ себя-Другого, но его нарративная фундированность остается прежней. Обладание определенным опытом (или же наоборот – невладение таковым) в сети, особенно в знающем сообществе, очень заметно. С такой проблемой сталкиваются, например, ученые, когда возникает необходимость анонимного рецензирования статей. В этом случае не обойтись без тщательного отслеживания собственного (особенно авторского) тезауруса. Текст, язык, даже выбор слов, а также интонация письменной речи задают определенные рамки реализации нарратива. В контексте актуальных сегодня проблем субъекта и субъективной идентичности в цифровой среде встает вопрос о том, кто автор текста и человек ли он вообще. Большое количество технологий сегодня стремятся вызвать цифровым путем некую творческую интенцию, приблизив тем самым искусственный интеллект к человеческому (генерируемые по запросу рисунки и тексты), однако пока что таким образом поощряется лишь еще большее отчуждение в сети. Не говоря уже об обратном эффекте, когда на основе существующих (и имеющих автора) работ искусственный интеллект выдает усредненный результат.
Цифровой нарратив одновременно фундирует этот мысленный эксперимент и задает его рамки, позволяя субъекту представить себя Другим, но остаться при этом самим собой. Идентификация, таким образом, осуществляется нарративно, обладая заранее определенными параметрами. В реальности провести такой эксперимент порой сложно (кардинальные изменения внешности, смена пола), а порой и вовсе невозможно в силу ряда устойчивых социокультурных паттернов (примерить на себя заведомо неприемлемую роль, например, преступника и злодея). Цифровое пространство (пусть и до определенной степени) гораздо терпимее к экспериментам такого рода, а сам экспериментирующий получает возможность, не меняясь, посмотреть на себя под иным углом. Похожая теория существует в психолингвистике, когда при использовании того или иного языка проступают разные черты характера носителя-билингва (подробнее об этом см.: [6; 7]).
И далеко не всякая идентичность в полной мере осмысливается в одиночестве: нужна реакция – от реакций на смену внешности до реакции на поведение. «Формируется цифровое сообщество, а это означает, что меняются правила коммуникации, общественное взаимодействие, создаются новые типы стратификации и регуляции общества, новая социальная чувствительность, условия новой сегрегации и агрессии, а поскольку наше сознание во многом продукт общественного взаимодействия, меняется и оно само, его система понятийных координат, его императивы, его формы чувственно- сти. Цифровая реальность – это не технологии, но техники жизни» [1, c. 207].
Самосознание обусловливается тем, что человек, не теряя собственной идентичности, рассказывает о себе, и тем, каким образом он это делает – процесс, смежный построению интриги (когда «аристотелевский mythos» преображается). По Рикеру, именно эта способность к изменению определяет «широту нарративного понимания» [4, c. 12]. Однако в случае с цифровым нарративом это преображение выходит за рамки идентичности человека, стоящего за ним. Более того, нарратив становится тем, что скрепляет один, два, десяток разных образов одного и того же актора, представленных в цифровом пространстве (начиная от тематических интернет-площадок и заканчивая персональными анкетами в социальных сетях). Современные исследователи очень четко разграничивают автора и нарратора. Столь же четкая граница пролегает между «страничкой» в соцсети и ее обитателем. В работе «Горизонты исторической нарратологии» В.И. Тюпа подчеркивает двоякое значение категории автора: конкретный человек, личность и виртуальная фигура, творящая воображаемый мир. Хотя исследователь говорит преимущественно о литературных контекстах, но на методологическом уровне можно сказать то же самое и о творце в цифровом пространстве: «…главенствующей характеристикой нарратора выступают не характер, возраст, общественное положение, мировоззрение, настроение и т.п. персонажные характеристики, а риторическая модальность (интенция) его говорения. Именно такая модальность обеспечивает нарративную идентичность нарратора» [5, с. 97].
Однако внутреннее отчуждение себя от «страницы» все-таки не наступает: каждый новый нарратив определяется самосознанием, уже пройденным опытом, существующими знаниями и образами, так что выбор той или иной роли все равно опирается на устойчивый фундамент внутреннего Я. Даже если в целом можно говорить о феномене так называемой «плавающей» идентичности (сегодня обитатель цифрового пространства очерчивает вокруг себя одно идентификационное поле, завтра ‒ другое), это лишь еще раз подчеркивает актуальность дифференциации, которую осуществил в свое время П. Рикер. Идентичность, зафиксированная как индивидуальность (Ipse), и идентичность как самотождественность
(Idem) не равны друг другу в цифровом пространстве [3].
Эксперимент подразумевает присутствие не только самого экспериментатора: необходима реакция, следовательно, необходим Другой. И здесь развертывается экзистенциальный пласт идентичности в цифровом пространстве. В отличие от реального общения, не все можно представить и воплотить, будучи при этом независимым от реакции Других. Этот же коммуникативный аспект проблемы Я у Декарта был переведен в онтологический план. «Вспомним, – писал М.К. Мамардашвили, – что именно Декарту принадлежат слова о том, что единственное, чего он хочет и о чем будет говорить, это то, что он может почерпнуть из своей души и из великой книги жизни. Обычно в русском переводе в этом выражении фигурирует слово “мир”, но это неудачное слово, ибо оно ассоциируется с другим словесным рядом, а именно – с “картиной мира” и т.п., то есть предполагает какую-то концепцию, изображение его. А в действительности там, где у нас переводят “мир”, у Декарта стоит слово “monde”, а оно имеет и другое значение – “свет”. То есть интенсивное общение, обмен, встречи, насыщение себя новым, любопытным, характерным, выдающимся и открытым. Живая жизнь в свете» [2, с. 11]. Таким образом, мир для Декарта – это «общество», куда приходит человек и в котором только и происходит его идентификация и самоидентификация. Окружающие люди составляют «жизненный мир» человеческого Я. И сегодня цифровое пространство, наполненное незримыми собеседниками, обеспечивает прежде всего онтологическую реализацию нарратива (особенно ‒ индивидуального, автобиографического) в сети .
Осмысление нарративного потенциала идентичности в цифровом пространстве позволяет выявить также и специфику трансформации живых форм общения в цифровую коммуникацию. Разумеется, это может повлечь за собой коммуникативные риски, связанные с когнитивными аспектами цифрового взаимодействия (упрощение языка, переход от нарратива к сторителлингу, вовсе потеря экзистенциально-личностного компонента на уровне наррации). Однако в целом, благодаря современным исследователям, теоретикам и методологам, тенденция направлена скорее на выявление факторов, способствующих повышению эффективности взаимодействий в цифровом пространстве и интеллектуализации общества. «Наррация в когнитивном значении возможна не только вербальная. Когнитивные структуры наррации могут реализоваться не только в слове, но и иными медиальными средствами (в частности, визуальными). Медиальная сторона словесных нарративов мыслится как “вербализация” наррации»2 [5, с. 33]. Рассуждая о специфике современной нарративной медиакоммуникации, можно определить особенности трансформации живых форм общения в цифровые формы коммуникации (на базе взаимодействия «человек – человек» и «человек – машина – человек»), тем самым подчеркивая значимость нарративной методологии для исследования когнитивных и экзистенциальных характеристик нарратива в цифровом пространстве3.
Негласное требование современности ‒ принятие в расчет самоидентификации в цифровом пространстве – действует на всех уровнях: от конкретного индивида (пользователь, читатель, зритель) до фирм и гигантских корпораций. Однако в таком случае человек получает, с одной стороны, больше возможностей, больше вариантов раскрытия себя самого в цифровом пространстве, а с другой ‒ оказывается незащищенным. Будучи перенесенными по аналогии в сегодняшние условия цифрового мира, опасения Декарта более чем оправданы: виртуальная реальность, дополненная реальность в разных своих проявлениях плотно заняли свою нишу в нашей жизни. Индустрия развлечений такого рода во многом базируется на том самом обмане, которого опасался философ ‒ и опасность побега от реальности трансформировалась в удовольствие от ее иллюзорности, вплоть до потери себя самого. В таком контексте темы классической эпистемологии обретают (подчас неожиданно) новый ракурс и актуальность. Нарратив в данном случае становится инструментом утверждения себя в цифровом пространстве и самопознания, источником идентичности.
Список литературы Идентичность в цифровом пространстве: нарратив между когнитивным и экзистенциальным
- Критика цифрового разума / Под ред. В.В. Савчука. СПб.: Академия исследования культуры, 2020.
- Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М.: Прогресс, 1999.
- Рикер П. Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. EDN: TSPVDN
- Рикер П. Время и рассказ: в 2-х т. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 1998.
- Тюпа В.И. Горизонты исторической нарратологии. М.: Алетейя, 2022.
- Ozanska-Ponikwia, K., 2012. What has personality and emotional intelligence to do with "feeling different" while using a foreign language? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol. 15, no. 2, pp. 217-234.
- Pavlenko, A., 2006. Bilingual selves. In: Pavlenko, A. ed., 2006. Bilingual minds: Emotional experience, expression, and representation. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 1-33.