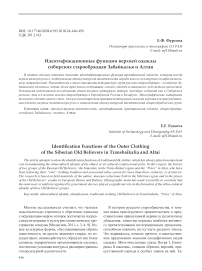Идентификационные функции верхней одежды сибирских старообрядцев Забайкалья и Алтая
Автор: Фурсова Е.Ф.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье сделана попытка показать идентификационные функции традиционной одежды, которая всегда играла важную роль в поддержании этнокультурной идентичности народа или его культурных (конфессиональных) подразделений. Показательна в этом отношении история двух групп русских старообрядцев - семейских Забайкалья и «поляков» Алтая, более трех веков следовавших «своей» одежде и связанной с ней системе ценностей. Основными источниками исследования стали полевые материалы автора, музейные собрания как в Сибирском регионе, так и в местах исхода старообрядцев в Европейской России и Беларуси. Этнографические материалы позволили сделать вывод о том, что регламентируемая правительственными указами верхняя или присутственная одежда сыграла значительную роль в становлении этнокультурной идентичности старообрядческих групп.
Этнокультурная идентичность, идентификация, традиционная одежда, старообрядцы, семейские забайкалья, "поляки" алтая
Короткий адрес: https://sciup.org/145145019
IDR: 145145019 | УДК: 391.2+93 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.446-450
Текст научной статьи Идентификационные функции верхней одежды сибирских старообрядцев Забайкалья и Алтая
Многие исследователи считают, что человек подсознательно стремится к обретению единства с окружающим миром, которое достигается посредством интеграции в культурно-символическое пространство социума [Малыгина, 2011, с. 3–4, 9]. Новые культурные формы, обуславливающие образы идентичности, не просто заменяют старые, но сосуществуют, взаимодействуют, образуют все более сложные, иерархически организованные системы, постепенно усложняя контуры и расширяя границы этнокультурной идентичности.
В истории русского старообрядчества, в течение веков преследуемого правительством и представителями православной церкви за религиозные убеждения, известны периоды наиболее активного препятствования интеграционным процессам, способным повлиять на эту часть русского этноса. Это выражалось, помимо прочего, в насильственном предписании ношения специфических видов одежды. Многочисленные указы Петра I, Екатерины II касались, главным образом, верхней, присутственной одежды и особых знаков на ней. Та- ким образом, из века в век в ходе межпоколенной преемственности большие по численности группы русского народа были вынуждены демонстрировать свою особую идентичность посредством специфического костюма, бороды и прически. Несмотря на жесткое отторжение со стороны российской элиты, как свидетельствуют многочисленные этнографические, архивные данные и письменные источники, старообрядцы сохранили русское этническое самосознание, идентичность.
Халатообразная конструкция верхней одежды была характерна для русских в XVII в., а в XVIII в. выходили указы, предписывавшие старообрядцам но сить такие «зипуны со стоячим клеевым козырем, ферязи и однорядку с лежачим ожерельем…» как дискредитирующие их [Лиле-ев, 1893, с. 127]. Если в отношении внешнего вида зипунов со стоячим воротниками-«козырями» относительно все понятно, то ферязи и однорядки вызывают дискуссию среди исследователей. Термином ферязь могли обозначать одежду свободного или прямого силуэтов с длинными узкими рукавами; ферязь надевали поверх кафтана или под кафтан; здесь могла присутствовать застежка сверху донизу [Кирсанова, 1995, с. 292–294]. Однорядкой называлась по мнению одних исследователей, в частности, М.Г. Рабиновича, просторная мужская и женская одежда с длинными (вариант: откидными) рукавами без воротника, сшитая без подкладки [Кирсанова, 1995, с. 187], по мнению других, например, Г. Г. Громова – со сходящимися спереди полами без запа́ ха, т.е. в один ряд [1979, с 207]. Вторая версия нам представляется более убедительной. В середине XVII в. в быт состоятельных крестьян постепенно входили как праздничная одежда, воспринятые от горожан, служилых людей по прибору (стрельцов, пушкарей и пр.) кафтаны из покупного цветного сукна [Там же].
Правительственная регламентация и приверженность старине должны были привести к единообразию внешнего вида старообрядцев по всей стране. Однако, как свидетельствуют этнографические материалы, этого не произошло. В виде пережитков старорусские виды одежды видим только у представителей двух групп старообрядцев – се-мейских Забайкалья и «поляков» Алтая, которые, впрочем выделялись и многими другими элементами культуры, выполнявшие у них идентификационные функции [Fursova, 2015].
Архивные материалы свидетельствуют об изначально сложном этнокультурном составе указанных групп старообрядцев с территорий, входящих сегодня в Брянскую обл. России и Гомельскую обл. Беларуси. Согласно документам РГАДА, в XVIII в. в этих местах сосредоточились выходцы из северных, центральных и южных губерний Российской империи (Московская, Белгородская (входили земли Орла, Курска, Брянска, Харькова, Чугуева и пр.), Новгородская, Смоленская, Воронежская, Нижегородская, Архангельская, Казанская и пр.) (РГАДА. Ф. 288. Д. 555. Л. 1–5. 1736 г.) [Тарусская, 1975, с. 71]. Впрочем, вопрос заключается также в том, из каких мест старообрядцы прибыли в указанные южнорусские губернии. Например, преобладание сарафанных комплексов указывает на центральные и северные места России как первичные места исхода.
В свете поставленной проблемы приведем описание стеженой на льняной куделе, шерсти или вате одежды под названием «халат», «подхалатик», которые семейские Забайкалья считали своей исконной принадлежностью еще в первой четверти ХХ в. (ПМА 1977, 2001, 2010). Халатообразной конструкции, с длинными, ниже кистей рук, рукавами (70–75 см) халаты и более короткие – подхалатики выделялись также яркостью красок используемых полушелковых материалов (голубые, красные, бордовые, вишневые и пр.), которые приобретались на Кяхтинской ярмарке. В качестве примера рассмотрим подхалатик из Музея ИКНСДВ ИАЭТ СО РАН (№ 1327). Стеганый на шерсти халат покрыт бордовой канфой, прошитой в нескольких местах на руках и, видимо позднее, с приобретением швейной машинки, машинными строчками. Конструкция напоминает косоклинный распашной сарафан, хорошо известный по этнографическим материалам XIX в. [Fursova, 2015, p. 121]. Два полотна ткани (шириной 75 см) использованы для передних полотен и одно на спинку; два клина внизу – большой на спине и малый спереди расширяют подол (рис. 1). Плечевые швы в надетом виде смещены на спину, за счет чего спереди швов, практически, не видно.
Во всех просмотренных нами халатах и подхалатиках указанного Музея (№ 320, 661, 639 и пр.) присутствуют сложные фигурные строчки по воротнику-шальке и левой поле – традиция, хорошо известная в XIX в. на европейской прародине в Белгородской, Курской губерниях. Фигурные ручные строчки, видимо, с внедрением в быт швейных машинок, были заменены на машинные. Плетеные и позументные тесьмы, шнурки из крученых шелковых нитей, обвязанных канителью, встречающиеся практически на всех халатах, позволяют считать, что эти виды украшений в быту се-мейских не были редкостью. В XVII–XVIII вв. они широко применялись российской элитой [Громов, 1979, с. 208]. Халатообразная одежда семейских не подпоясывалась и запахивалась на левую сторо-

Рис. 1. Подхалатик. Музей ИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Сбор Ф.Ф. Болонева, 1978 г.
Рис. 2. Стеженая на шерсти шуба. Суджанский краеведческий музей, Курская обл. Фото Е.Ф. Фурсовой, 2018 г.
ну, если нужно было держать ребенка. С изнанки имелись по две прихватки для того, чтобы держать полы. Женщины могли носить халаты внакидку («на опаш»), полы в этом случае располагались параллельно, что позволяет провести аналогии со старорусской одеждой «опашень». Новосибирская собирательница Т.Н. Апсит, этнограф Ф.Ф. Болонев указывали время изготовления халатов с удлиненными рукавами – вторая половина или конец XIX в. В этнографических коллекциях встречаются халаты и с более короткими рукавами, относительно позднего времени изготовления, сшитые на швейной машинке. На основе вышеизложенного можно сделать заключение, что рассматриваемая верхняя одежда типологически представляет собой косоклинные сарафаны с длинными рукавами, про-стеженные на шерсти (куделе).
Если обратиться к зимней одежде, то зде сь также очевидны связи с старорусской одеждой XVII в. В качестве примера можно сослаться на шубу из коллекции Музея ИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Шуба из козьих шкур, сшита мехом внутрь (№ 350, сбор Т.Н. Апсит 1973 г.) сверху, с лицевой стороны, покрыта полушелковой тканью бордового цвета. Низ рукавов отделан черным козьим мехом и двумя полосками позумента. Ворот и края полок тоже были отделаны мехом, о категории которого судить трудно, так как сохранилась лишь мездра. Аналогичной конструкции шубы с длинными рукавами хранятся в музеях Курской обл. (напр., в Суджанском краеведческом музее), но, в отличие от забайкальских, они стеженые на шерсти, а кусочки меха лишь обрамляют ворот, края пол, подол (рис. 2).

Рис. 3. «Полячка» Алтая. Фото А.Е. Новоселова, 1912 г.
Халатообразная одежда из плиса или дешевого бархата были известна и в родственной се-мейским группе «поляков» Алтая. Сохранилась фотография А.Е. Новоселова 1912 г., где «полячки» изображены в такого рода одежде с длинными, скрывающими руки, рукавами (рис. 3). Подобный орнаментированный халат хранится в собрании РЭМ (№ 5158-36) под названием «подоболочка». Он был приобретен А.Н. Белослю-довым в 1925 г. в д. Быково Верх-Бухтарминской волости, т.е. в тех местностях, население которых имело близкие контакты с «поляками». Однако, если забайкальские старообрядцы шили крытые шелком халаты в начале ХХ в., то «поляки» отказались от них раньше. Среди семейных реликвий современных потомков старообрядцев и в музеях
России сохранились забайкальские халаты, сведений же об алтайских почти не осталось.
Регламентируемая для старообрядчества старорусская верхняя одежда XVII в. «зипуны с козырями, ферязи и однорядки» не просто сохранилась в конструктивных, декоративных традициях, способах ношения «халатов» и «шуб» забайкальских и алтайских групп, но стала частью их культурного наследия. В качестве верхней (присутственной) и обрядовой (моленной) одежды халаты были интегрированы в процесс поиска идентично сти этих этнокультурных групп, а впоследствии составили ядро культурной памяти. Таким образом, можно зафиксировать наличие некоторых устойчивых закономерно стей, чрезвычайно важных для понимания механизмов динамики этнокультурной идентично сти: на каждой новой исторической стадии происходила не отмена, а частичная трансформация, адаптация и синтез традиционных и актуальных (при-оритеных) идентификационных оснований [Малыгина, 2011, с. 9]. Возврат к халатам, кафтанам в качестве моленных ко стюмов прослеживается в среде современного старообрядчества не только в России, но и в Беларуси, причем даже более активно, чем это имело ме сто в 1970–1980-х гг., однако конструктивно это уже другая одежда.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-09-00028а.
Список литературы Идентификационные функции верхней одежды сибирских старообрядцев Забайкалья и Алтая
- Громов Г.Г. Одежда // Очерки русской культуры XVII века. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. - С. 202-218.
- Кирсанова Р.М. Костюм в художественной культуре XVIII - первой половины ХХ в. - М.: Бол. Рос. энцикл., 1995. - 383 с.
- Лилеев М.И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и Стародубье XVII-XVIII вв. - Кiев, 1893. -278 c.
- Малыгина И.В. Грани и границы этнокультурной идентичности в современном мире // Проблемы формирования национально-культурной идентичности в современной России. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. - С. 3-13.
- Тарусская М.Г. Коллекция расписной утвари и одежды семейского населения // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. - Новосибирск: Наука, 1975. - Ч. 2: Забайкалье. - С. 71-80.
- Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда старообрядцев юга Западной Сибири в конце XIX - первой трети XX века: опыт историко-этнографического исследования // Археология, этнография и антропология Евразии. -2015. - Т. 43, № 4. - С. 114-126.