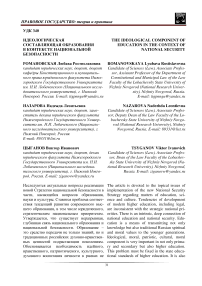Идеологическая составляющая образования в контексте национальной безопасности
Автор: Романовская Любава Ростиславовна, Назарова Надежда Леонтьевна, Цыганов Виктор Иванович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 (49), 2017 года.
Бесплатный доступ
Исследуются актуальные вопросы реализации новой Стратегии национальной безопасности в части, касающейся вопросов образования, науки и культуры. Ставится проблема соответствия тенденций развития современного высшего образования, в том числе юридического, стратегическим национальным приоритетам. Утверждается, что существует неразрывная, глубинная связь национального образования и национальной безопасности. Образование - это средство передачи не только знаний, но и традиционных российских духовно-нравствен-ных ценностей подрастающим поколениям. Обосновывается необходимость идейного, нравственного, патриотического, культурного, духовного воспитания личности в рамках не только начального и среднего, но и высшего образования. Указывается на актуальность отражения данной задачи в государственных образовательных стандартах высшего образования и выработки действенного механизма ее реализации. Компетентностный подход в образовании должен быть дополнен ценностно-ориентированным (идеологическим) компонентом в качестве базового.
Национальная безопасность, стратегические приоритеты, национальное образование, традиционные ценности, духовно-нравственное развитие, юридическое образование
Короткий адрес: https://sciup.org/142233888
IDR: 142233888 | УДК: 340
Текст научной статьи Идеологическая составляющая образования в контексте национальной безопасности
Важнейшим документом, определяющим развитие страны, является Стратегия национальной безопасности [2]. В настоящее время подобные документы имеют многие крупные государства. В конце 2015 года была утверждена новая Стратегия национальной безопасности России. По некоторым положениям она существенно отличается от прежней Стратегии, по другим - сохраняет преемственность. Будучи важнейшим документом, Стратегия определяет национальные интересы, приоритеты и задачи в области внутренней и внешней политики. В предыдущей редакции были сформулированы два определения стратегии – как системы приоритетов, целей и мер, и как документа планирования, в котором излагались порядок действий и меры по обеспечению безопасности [13]. В новой редакции Стратегия определяется как основа для формирования и реализации государственной политики во всех сферах жизни. В тексте добавились новые цели, задачи и меры обеспечения безопасности, а также названы новые обстоятельства, которые, по мнению авторов документа, представляют угрозу национальной безопасности.
Нельзя не отметить как положительный сдвиг то, что среди стратегических целей по повышению уровня жизни появились цели развития человеческого потенциала, удовлетворение социальных и духовных потребностей граждан. Заметим, что количество проблем в социальной и духовной областях настолько возросло в последние двадцать лет, как раз вследствие отсутствия внятной государственной политики в этих областях, что заявление об этом уже является хоть малым, но импульсом в нужную сторону.
В стратегии появилась новая идея - повышение инвестиций в развитие человеческого капитала. Этим модным термином переименовали старую идею – забота о человеке. Эта смелая мысль может содержать в себе большое количество смыслов, а может означать только увеличение финансирования некоторых социально значимых сфер. На практике это будет зависеть от того, насколько и как именно данный тезис понимает правительство и, соответственно, какая у него будет бюджетная составляющая. Обращают на себя внимание громкие слова об обеспечении лидирующих позиций России в области фундаментального математического образования, физики, химии, биологии, технических, гуманитарных и социальных наук. Уж очень сильно желаемое расходится с действительным.
Согласно данным ЮНЕСКО, представленным в The UNESCO Science Report: towards 2030, который был опубликован в ноябре 2015г., расходы на НИОКР в России с 2004 года практически не изменились [45]. Они колебались в пределах от 1,04 до 1,25% от ВВП. Большинство европейских стран, США, Япония, Израиль и Корея вкладывают в развитие науки и технологий в 3–4 раза больше. Такая же ситуация и с образованием: доля расходов бюджета на образование колеблется около 4%, и не увеличивается. У других международных игроков, таких как США и страны Европы в большинстве своем, расходы на образование выше. Учитывая, что война между государствами ведется за школьной скамьей - Россия проигрывает в этой войне [43]. Создание фундаментальных документов, подобно Стратегии национальной безопасности, требуют от авторов глубоких знаний не только теории вопроса, но и реальной жизни, где эта стратегия будет реализовываться, в каких условиях и кем она будет воплощаться, что происходит в этой сфере в настоящий момент, какие тенденции преобладают. Тогда есть слабый шанс, что этот документ не останется простой декларацией о намерениях, и что у него будет перспектива реализации.
Полагаем, что существует неразрывная, глубинная связь национального образования и национальной безопасности, и поэтому, все, что касается образования, в том числе и высшего, необходимо рассматривать под этим углом зрения. На такую связь указывают многие исследователи, в частности С.В. Камашев, который, анализируя проблемы интеграции России в мировое образовательное пространство, пишет: «безопасность государства в стратегическом плане определяется состоянием системы образования» [25]. Автор отмечает, что попытка радикального слома сложившейся системы образования и переделка ее по западному образцу угрожают безопасности образования России.
Такая позиция ни в коей мере не отвергает разного рода сотрудничество, студенческий обмен, преподавательские стажировки, конференции, другие формы общих мероприятий с образовательными учреждениями других стран. Необходимо учиться сотрудничать и находить общие знаменатели даже в самых сложных гуманитарных ситуациях – это аксиома выживания человечества. Речь идет о другом. Не о политике, а о ценностях, которые необходимо сохранять и передавать своим потомкам. Эти ценности вполне могут отличаться у разных народов. И нет в этом ничего плохого. У каждого социума есть своя история, культура, религия, традиции, соответственно, каждый народ будет беречь свои собственные ценности [38]. Это нормальная ситуация. Опасность представляет их принудительное навязывание и имплементация в чужое идеологическое пространство под видом более прогрессивных форм общественного развития [39; 40].
В Стратегии национальной безопасности 2015 г. в перечень национальных интересов на долгосрочную перспективу введен пункт о сохранении и развитии культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В п. 78 Стратегии приведен перечень таких ценностей: приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины.
Данное обстоятельство представляется особо значимым с позиций синкретизма современной правовой культуры [14; 15; 17]. Как хорошо известно, в современном глобальном обществе [33] все социальные регуляторы влияют на поведение человек совместно. Ни одна социальная норма не действует изолированно от других, здесь наблюдается единство и взаимодействие. По этому поводу доктор юридических наук Ф.Х. Галиев, обосновавший синкретизм права в качестве самостоятельного научного направления, констатирует: «ни одна из социальных норм в современном обществе не функционирует изолированно от других… Сущность синкретизма правовой культуры заключается в том, что правовая культура формируется и функционирует, будучи составляющим элементом процесса воздействия права на общественные отношения, в единстве с другими социальными регуляторами…, синкретизм правовой культуры, как взаимосвязанность и единство функционирующих в обществе различных систем социальных норм, сформировался на протяжении всей истории существования человечества» [16, стр. 23].
«В современном мире, – по мнению Ф.Х. Галиева, – сложно найти юридическую норму, которая бы противоречила требованиям иных нормативных регуляторов общественных отношений, функционирующих в обществе в виде норм морали, религии, этики и т.д. Это объективно связано с синкретизмом правовой культуры, который означает взаимозависимость требований всего комплекса действующих в современном обществе социальных норм в процессе их воздействия на сознание и поведение людей» [16, стр. 12]. Нам такой подход дает основания утверждать, что ценности, перечисленные в ст. 78 Стратегии, объективно ориентируют общество, государство, да и конкретного индивида на формирование и культивирование их в нашей социуме, в том числе и в процессе образовательной деятельности.
Сам факт закрепления указанных ценностей в Стратегии, безусловно, является очень значимым. Кроме того, за год до принятия новой Стратегии, Указом Президента РФ были утверждены Основы государственной культурной политики, в которых государство впервые возвело культуру в ранг национальных приоритетов [1]. В этом документе обозначен ряд проблем, охарактеризованный как гуманитарный кризис, - снижение интеллектуального и культурного уровня общества, девальвация общепризнанных ценностей, рост агрессии и нетерпимости и др.
В целях преодоления этих негативных тенденций и должна осуществляться государственная культурная политика, реализовываться различные государственные (федеральные и региональные) и муниципальные программы. В числе документов стратегического планирования, направленных на реализацию указанных в Основах целей и задач, необходимо назвать Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, которая была утверждена Правительством РФ в феврале 2016 г. [4], Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. в мае 2015 г.) [3] и ряд других. Данные документы отражают новую ценностно-ориентированную модель государственной культурной политики. Однако положения всех этих документов только предстоит воплотить в жизнь, и для этого необходимы консолидированные усилия государства и общества.
Совершенно очевидной представляется мысль о том, что формирование гражданина происходит постепенно, начиная со школьных лет, и продолжается в высших (или иных) учебных заведениях. Именно вуз может сыграть ключевую роль в деле воспитания личности, чувствующей свою связь с родиной, с народом, с историей своей страны и с его будущим. Именно молодые люди с неизбежностью станут тем очередным поколением, которое будет это будущее строить, формировать правила, по которым общество будет жить, принимать законы, взаимодействовать с другими сообществами и государствами [28; 30].
Если вырастет образованное поколение, то не придется заново изобретать велосипеды и наступать на грабли, (это уже все в истории многократно происходило). Есть такое понятие, как передача социального опыта. В условиях стабильной жизни оно происходит незаметно и постоянно. Но в условиях слома мировоззренческих установок, смены социальных ориентиров, внешней идеологической экспансии, нарушается процесс передачи этого опыта и подменяется чуждым, а потому вредным и опасным для данного общества социальным опытом [46]. Именно это происходило в России в течение последних двух десятков лет.
Провозглашение модернизации как основного вектора развития повернуло общество от социалистической идеи коллективизма и солидарности к идеологии либерализма, индивидуализма, конкуренции, и иного подхода к образованию [19; 24; 32]. Воспитательная функция из системы образования была устранена. Был внедрен сервисный подход к обучению студентов, провозглашающий, что образование это обычная услуга, где отношения сторон являются клиентскими, как в любом другом договоре об оказании услуг. Это в корне противоречило отечественной традиции. В процессе образования, как это всегда понималось в России, происходит не только передача знаний в конкретной сфере, но, главным образом, «передача ценностей, ба- зовых духовно-нравственных ориентиров, представлений о жизни, о целях, о смыслах, - в этом заключалась ценность отечественной традиции образования новых поколений» [41].
Разрушение линии передач и подмена ее другой привела к тому, что в новом образовательном пространстве появились иные ценности и смыслы. Появились новые термины, характеризующие процессы, происходящие в образовании: портфолио студента, конкурентное преимущество, эффективный студент, компетентностный подход, матрицы компетенций, и прочие «характеристики» процесса передачи и усвоения знаний.
Изменилась сама методология преподавательской деятельности. Педагог превратился в тьютора, вместо учебного класса – дистанционное обучение, вместо классического урока – клиповый набор информации. Выяснилось, что студент, занимающийся дистанционно перед экраном компьютера, не может удерживать внимание более 15 минут. Из чего возникли рекомендации по методике дистанционного образования – материал должен быть изложен в пятнадцатиминутном ролике. Но какое отношение этот рынок имеет к настоящему образованию? Чей социальный опыт передается в такой системе? Какие базовые ценности формирует эта модель? Представляется, что происходит имплементация западных рыночных индивидуалистических ценностей, направленных на личный успех, на конкурентное преимущество, вне определенного социума, вне родной страны, вне ответственности за ее судьбу, вне понимания общественного долга, вне высоких идеалов [12; 20; 21; 31]. Такая тенденция с неизбежностью повлечет за собой ухудшение социального потенциала, а в итоге, через два поколения – не расцвет, а значительное ухудшение социального климата.
Как пишут исследователи данного вопроса из московского Центра научной политической мысли и идеологии, «главная угроза заключается в самом государственном управлении страной. Само госуправление ориентировано на ценности, чуждые стране. Ситуация с образованием – яркий тому пример. Если убрать все второстепенные детали, то системный образовательный антипроект реализуется с одной-единственной целью: еще шире отворить ворота, через которые российская наука будет утекать за рубеж» [42]. В качестве подтверждения этих опасений можно указать на результаты исследования, проведенного в Институте психологии РАН, показавшего эскалацию негативных характеристик социума, начавшуюся с вхождением страны в неолиберальный период [44], т.е. в постперестроечный период.
В настоящее время наметился некоторый сдвиг в области идеологии и образования. С высоких трибун заговорили о необходимости воспитательного компонента в образовании, в общественно-политический дискурс вернулись такие слова, как: национальная идея, патриотизм, духовность, нравственность, солидарность, появилось осуждение идеологии потребительства, вседозволенности, которая под маской прав личности приобрела запредельные формы, и другие позитивные признаки возвращения к национальным ценностям и интересам [27; 34; 35; 36; 37].
Содержание рассмотренных нами выше правовых документов подтверждает, что государство нацелено на сохранение традиционных ценностей, исторического и культурного наследия, на участие в передаче новым поколениям духовного опыта нации. Воспитание снова признается неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением. Ставится задача формирования у детей и молодежи высокого уровня духовно-нравственного развития, системы ценностей, которые сложились в процессе культурного развития России. Эти ценности ставят заслон разрушительному воздействию чуждых нашему обществу идей и паттернов. Система национального образования должна не просто обеспечивать функционально подготовленных работников для той или иной сферы, она должна, выражаясь словами классика, «сеять разумное, доброе, вечное». В свою очередь государство должно предоставить возможность делать это.
Однако, на примере нового образовательного государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» [11], который вступит в силу с 1 сентября 2017 г., мы можем констатировать, что места для идеологической, духовно-
нравственной составляющей подготовки юристов в ней не нашлось. Представляется, что это несколько расходится с общими установками Стратегии национальной безопасности и Основ государственной культурной политики. Если юридическое образование не будет нацелено на идейное, нравственное, патриотическое, культурное и пр. воспитание личности, а только на формирование утилитарных компетенций, то как мы можем требовать от судей, адвокатов, прокуроров, работников органов внутренних дел и т.д. соблюдения принципов юридической этики? А ведь к работникам юридической профессии предъявляются повышенные моральноэтические требования, так как их решения затрагивают важнейшие права и интересы граждан. Такие требования закреплены соответствующими кодексами профессиональной деятельности, в частности это: Кодекс судейской этики (утверждён VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012) [10]; Кодекс этики прокурорского работника РФ (утверждён Приказом Генпрокуратуры РФ от 17 марта 2010 года) [5]; Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ (принят Приказом МВД РФ от 24 декабря 2008 года) [6]; Кодекс профессиональной этики адвоката [8]; Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации [9]; Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы судебных приставов (утв. приказом Федеральной службы судебных приставов от 12 апреля 2011 г. № 124) [7].
Мы убеждены, что воспитание высоконравственной личности будущего юриста, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали, - это одна из важнейших задач юридического образования. Механизмом ее реализации может служить не только внеучебная воспитательная работа, проводимая со студентами в различных формах, но и преподавание соответствующих учебных курсов, имеющих значительный воспитательный потенциал, например таких, как: Юридическая этика, Религия и право, Философия права, Право и справедливость, Право и русская культурная традиция, История России, История отечественного государства и права, История политических и правовых учений, Теория государства и права и др. [22; 23]. Заметим, что в процессе преподавания именно этих дисциплин происходит закладка идейно-духовной платформы юридического образования, патриотического воспитания, уважения национальных традиций, чувство национальной гордости, осознание духовного потенциала своей страны и понимание ее места среди других народов [18; 26; 29].
Подводя итог всему вышесказанному, подчеркнем, что проблемы российского образования являются стратегически важными в контексте национальной безопасности и они должны занять ключевое место во внутренней политике российского государства.
Список литературы Идеологическая составляющая образования в контексте национальной безопасности
- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» / Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 52 (часть I). Ст. 7753.
- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» / Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: http:/www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/ (дата обращения: 07.03.2017).
- Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.» [Электронный ресурс]. URL: http:/base.garant.ru/71343400/ (дата обращения: 07.03.2017).
- Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http:/www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257302/ (дата обращения: 11.03.2017).