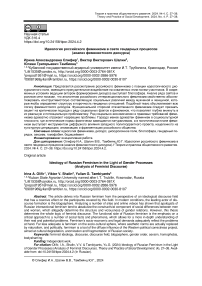Идеология российского феминизма в свете гендерных процессов (анализ феминистского дискурса)
Автор: Олифир И.А., Шалин В.В., Тамбиянц Ю.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Предлагается рассмотрение российского феминизма с позиции идеологического дискурсионного поля, имеющего принудительное воздействие на охваченных этим полем участников. В современных условиях ведущим актором формирования дискурса выступает блогосфера. Анализ ряда сайтов и роликов сети показал, что апологетам российского интерсекционального феминизма свойственно абсолютизировать конструктивистскую составляющую социальных различий между мужчиной и женщиной, которые якобы определяют структуру и порочность гендерных отношений. Подобный тезис обусловливает всю логику феминистского дискурса. Функциональной стороной отечественного феминизма следует признать акцент на критическом подходе к ряду социальных фактов и феноменов, что позволяет глубже вникнуть в их реальную и потенциальную проблематику. Ряд социально-экономических и правовых требований феминизма адекватно отражают назревшие проблемы. Гораздо менее адекватен феминизм в социокультурной плоскости, где эстетические нормы фактически замещаются натурализмом, а в политическом плане феминизм выступает инструментом диффузного влияния западного политкорректного проекта, нацеленного на культурную деградацию, аномизацию и фрагментацию российского общества.
Идеология феминизма, дискурс, дискурсионное поле, блогосфера, гендерный порядок, сексизм, гомофобия, бодишейминг
Короткий адрес: https://sciup.org/149145292
IDR: 149145292 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.2
Текст научной статьи Идеология российского феминизма в свете гендерных процессов (анализ феминистского дискурса)
Социальная динамика современности имеет не только многосторонний смысл, но и многозначный. В последние десятилетия происходит стремительное совершенствование технологий, сопровождающееся повышением качества жизни и увеличением ее продолжительности, особенно в передовых странах. Благодаря удешевлению коммуникаций расширяются возможности производства, культурного обмена, разнообразия досуга и т. д. Однако имеется и обратная сторона. Логика постиндустриализма сущностно настраивает на социальную поляризацию (В. Иноземцев), следствием массовой культуры потребления стало развитие гедонизма, наконец, проект политкорректности, по мысли Л. Ионина (2010: 257), выступает главным орудием деградации культуры Запада.
Отражением упомянутых общественных трансформаций становятся изменения гендерной составляющей социального порядка. Cогласно рассуждениям одного из ведущих отечественных социологов И. Кона, в настоящий момент впервые также складывается ситуация, когда мужчины и женщины начали открыто и жестко конкурировать друг с другом «в открытом спектре общественных отношений и деятельностей» (2009: 98). Все это подкрепляется комплексом следующих объективных обстоятельств: все более широкое вовлечение женщин в производственные процессы; изменение гендерных отношений власти, где монополия мужчин сходит на нет; меняющаяся в пользу женщин ситуация в сфере образования; эволюция брачно-семейных отношений в сторону большего равенства и вытеснения доминирования принципом партнерства; динамика гендерной социализации детей в сторону совместного обучения; появление более мягких промежуточных формы вместо жесткого противопоставления маскулинности и феминности; усложнение и разнообразие мужской иерархии (Кон, 2009: 98–103).
Феминизм – идеология, выступающая за расширение прав женщин, – не может рассматриваться вне зависимости от подобных процессов. Зародившись в качестве социально-политической концепции в эпоху Нового времени, феминизм выступал одним из сегментов философии Просвещения, полностью отражая его логику. Вместе с тем характер динамики феминизма складывался в зависимости от времени и места. С одной стороны, его положения со временем становились все более расширенными, включая все новые требования социальной эмансипации; с другой – феминизм, погружаясь в определенную социокультурную среду, естественным образом вбирал в себя ее специфику. В качестве движущей силы феминизма обычно выступали наиболее пассионарные представительницы прекрасного пола, однако они вряд ли сыграли бы подобную роль без наличия таких важных объективных источников, как индустриализация и демократизация, причем как в либеральном, так и в социалистическом вариантах; а также социокультурных изменений, определивших рационализированный дух эпохи Нового времени, или «расколдовывание» мира (термин М. Вебера).
Однако современный мир закономерно рассматривается в категориях «программируемого», «информационного» общества. Если прозванное веком идеологий XX столетие характеризовалось мировоззренческой целостностью на национальном и даже транснациональном уровнях, то нынешняя духовная сфера приобрела более гибкий и расплывчатый характер, где традиционные классические идеологические системы перемежаются с фрагментарными, или «молекулярными» (термин Дж. Шварцмантеля), идеологиями. Естественно, это отразилось на формах феминизма – например, германский социолог Н. Больц противопоставляет друг другу просвещенный феминизм и феминизм фанатичный. Если первый связывается со славной историей европейского прогресса в осознании идеи свободы, то во втором видится «психическое заболевание, распространившееся в массовом порядке в определенных медиа и учреждениях культуры, которые считают его новой формой интеллекта» (Больц, 2014: 65).
Необходимость рассмотрения феминизма в современном отечественном социуме диктуется следующими соображениями. В теоретическом плане исследование дискурса феминизма расширит представление о его свойствах в российском варианте через соотношение с социальной действительностью. Кроме того, феминизм обоснованно можно рассматривать как идеологию одного из «меньшинств», опекаемых западным проектом политкорректности, претендующих на мировой глобальный смысл. В свете сегодняшних геополитических обстоятельств это может дать информацию, полезную уже в плане политической практики. Наша рабочая гипотеза может быть представлена следующим образом. Феминизм на российской почве отражает социальную динамику, касающуюся прежде всего гендерного сегмента общественных отношений, но при этом претензии на расширение приходят в противоречие с традиционными устоями отечественной культуры.
Цель настоящего исследования заключается в определении ключевых положений идеологии феминизма и оценке ее роли для отечественных гендерных процессов. Среди задач видятся: во-первых, методологическое обоснование рассмотрения идеологии феминизма с социологического ракурса, что обеспечивает в этом плане категория дискурсионного поля, одним из важнейших конструктов которого выступает блогосфера; во-вторых, содержательная оценка собственно феминистского дискурса, для чего привлечен метод дискурс-анализа текстов, предложенный в работах М. Фуко (1996).
Удобное определение дискурса предлагает социолог В. Ильин: «социальное взаимодействие по поводу определения реальности»1 (2008: 62). Довольно расхожим стало мнение, что «идеологии в значительной степени выражаются и усваиваются через дискурс, т. е. путем устного или письменного коммуникативного взаимодействия» (Мусихин, 2013: 52). При этом Г. Му-сихин констатирует здесь двусторонность – идеологии должны рассматриваться и как обобщенные ментальные модели, развивающиеся снизу вверх, и как идеологические «инструкции», воздействующие сверху вниз (2013: 71–72).
Дискурс нацелен на социальное единство, разграничивая «своих» и «чужих». По мысли того же Г. Мусихина, здесь выходит во главу угла стратегия позитивной самопрезентации, а также негативной презентации «чужих». В рамках подобной стратегии подчеркиваются «наши» положительные качества и, напротив, «их» отрицательные качества. При этом важно, что участники идеологического дискурса обычно отрицают идеологизацию собственных рассуждений, считая, что в их основе лежит подлинное «фактическое знание, отрицание которого – не иная точка зрения, а заблуждение и нежелание “видеть факты”» (Мусихин, 2013: 57).
К идеологии феминизма вполне применима категория дискурсионного поля, разработанная упомянутым социологом В. Ильиным. Дискурсионное поле – это «смесь интеллектуального и социального полей, здесь словесное взаимодействие трансформируется в определенный тип социальной практики»2. Поле идеологического дискурса структурировано, имеет собственные границы, функционирует посредством расширяющихся социальных практик, нередко институционализируемых. Смысловое содержание такого поля обладает свойством воспроизводства, на что нацелены различные тексты, образующие единый интеллектуальный поток. Здесь предлагается категория дискурсивного древа, выступающего каркасом поля. Как пишет В. Ильин, «работы разных авторов питают друг друга, вырастая одна из другой как ветви дерева, стволом которого выступают труды классика или классиков»3. Участники и потребители идеологического дискурсивного поля, как правило, нацелены на поиск тех текстов и работ, которые им понятны и близки. В их общении обычно мелькают «свои» имена.
Если говорить о феминизме, то так называемые феминизмы первой и второй волн выступали в качестве сегментов либерального или социалистического дискурсионных полей, а третья волна феминизма характеризуется большим разнообразием его форм, среди которых выделяются радикальные, питаемые парадигмой политкорректности. Последняя нацелена на социальное дробление посредством производства новых и новых идентичностей, что усиливает тенденции группового отчуждения, социальной фрагментации и даже хаотизации (Больц, 2014; Ионин, 2010).
Дискурсионное поле обязательно наделено силовым принудительным характером в отношении тех, кто в нем пребывает. В определенной степени условием включения в идеологический дискурс выступает не только факт осведомленности, но и ориентация (хотя бы видимость) на конкретные стандарты, идейные принципы и т. п. Иначе «велик риск непонимания, отторжения, изоляции и выталкивания в другое поле»4.
Дискурсионное поле выступает как иерархическая структура, где центральное ядро составляют основоположники традиции . Применительно к феминизму это признанные классики -М. Уолстонкрафт, А. Уиллер, С. Бовуар и др. Далее идут лидеры-интерпретаторы, развивающие заложенную классиками традицию в определенных месте и времени. К этому уровню относятся американки Б. Фридан, Дж. Митчелл, немка У. Майнхоф или советская женщина-деятель А. Коллонтай. Активисты занимаются организацией дискурсионного поля, стремятся вовлечь в него новых людей, но пассивны теоретически. Упомянутые далее российские феминистки Н. Во-двуд5, Д. Серенко6 как осуществляют информационно-идеологическую деятельность, так и проявляют активность по расширению поля дискурса феминизма. Приверженцы следуют правилам дискурсионного поля, но не отличаются активностью в деле расширения и воспроизводства поля. Попутчики, как правило, лишь временно попадают в пространство влияния дискурса, что-то принимают, могут что-то использовать, но «в целом это почти посторонние люди, которые так же легко уходят, как и приходят»7.
Поле идеологического дискурса нацелено не только на задачи самовоспроизводства, но и на расширение пространства собственного влияния, что предполагает значительную социальную активность, как правило воплощающуюся в институционализации. Естественно, что идеологический дискурс может выступать через различные формы информационного воздействия – печатные средства, сеть Интернет, художественные произведения и пр. Мы считаем целесообразным в анализе дискурса сделать акцент на блогосфере, не отрицая воздействия и иных информационных источников. Это диктуется следующими причинами.
Во-первых, современному социальному сознанию присущ феномен клипового мышления – восприятие информации через яркое короткое послание. Такое мышление способно быстро переключаться между информационными фрагментами, однако не может целостно воспринимать окружающий мир (Купчинская, Юдалевич, 2019: 67, 69). По мысли Е. Гришаевой, интернет-пространство построено как гипертекст, предполагающий рассеянное и фрагментарное восприятие. Блогеры принимают в расчет особенности современного мышления, а отнюдь не долгую концентрацию пользователя на чтении. Информация в интернет-пространстве обычно излагается в сжатой и лаконичной форме, чтобы читатель даже при беглом невнимательном прочтении мог уловить основную мысль сообщения (Гришаева, 2016: 48–49).
Во-вторых, объективные данные позволяют выносить заключение о том, что, будучи продуктом глобального-информационного общества (термин М. Делягина), блог в настоящее время стал одним из наиболее популярных электронных средств массовой информации (Давыдов, 2008: 92). Прежде всего это касается молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Трудно спорить с точкой зрения, что в современном цифровом медиапространстве ведение блогов можно рассматривать как коммуникативный мейнстрим. Сегодня в мире на различных платформах существует более 600 млн блогов, при этом каждый день создается в среднем 120 тыс. новых (Лядова, 2023: 33, 35).
Полезные для нас принципы собственно анализа дискурса содержатся в работах французского исследователя М. Фуко, которые целесообразно использовать в качестве исследовательских методик. Он исходил из того, что «в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности» (Фуко, 1996: 51). Главной такой процедурой, участвующей в формировании и воспроизводстве дискурса, М. Фуко называет исключение , которое сводится к различным формам. Это простой запрет , фактическое табуирование отдельных тем и ракурсов рассмотрения, а также разделение и отбрасывание . Последнее М. Фуко иллюстрирует противопоставлением разума и безумия (1996: 52). Дискурс человека, признанного сумасшедшим, не может циркулировать как другие дискурсы «нормальных» людей. Наконец, не менее весомым механизмом формирования дискурса выступает разделение и противопоставление истинного и ложного . При этом понимание и способы навязывания истины исторически изменчивы, что также сказывается на характере циркуляции и функционирования дискурса (Фуко, 1996: 55).
Дискурс феминизма в России представлен работами немалого числа авторов. Для анализа мы отобрали тексты правозащитницы А. Поповой1, поэтессы Д. Серенко, художницы Ю. Цветковой2 и автора блога Н. Водвуд, которые были опубликованы в сети Интернет с 2018 по 2021 г. Целевой характер выборки объясняется следующим. Во-первых, эти личности позиционируют себя интер-секциональными феминистками. В связи с многообразием направлений феминизма (левый, либеральный, радикальный и пр.) имеет смысл остановиться на обобщенных его формах, а это именно интерсекциональный феминизм, заявляющий о системном осмыслении общественного порядка, из которого вытекают гендерные и другие иерархии. Во-вторых, названные апологеты феминизма обладают достаточным медийным весом. Н. Водвуд имеет собственный ютуб-канал, а Ю. Цветкова и Д. Серенко выступали на популярных каналах, таких как «Радио “Свобода”»3 (3,79 млн подписчиков), «Популярная политика» (2,18 млн), «А поговорить?» (2,73 млн), «Продолжение следует» (688 тыс. подписчиков). В-третьих, указанные фигуры заняты в различных сегментах отечественной социокультурной сферы – праве, художественном творчестве, блогинге.
Конечную цель феминизма презентует философ О. Харитонова, автор Манифеста феминистского движения России4. Исходя из абсолютного приоритета женских ценностей над мужскими, она считает необходимым в перспективе преобразование патриархатного общества в матриархат-ное. Базовым посылом феминизма любой версии является утверждение об искусственном характере гендера, благодаря которому сложились совершенно искаженные отношения между полами.
Л. Ионин, исходя из модели современного общества меньшинств, констатирует, что идеология любого меньшинства строится на жестком противопоставлении с тем или иным большинством, которое стремится данное меньшинство подвергнуть депривации и эксклюзии. Закономерно, что феминизм, выступая такой идеологией меньшинства, формирует обобщенный образ врага в лице представителей сильной половины (Ионин, 2012: 228). Подобная априорная установка во многом обусловливает характер общего контекста феминистского дискурса, и через нее несложно определить суть процедуры исключения, упомянутой в работах М. Фуко. По сути, в содержании текстов отсутствует тематика, которая бы выставляла в социально благоприятном, конструктивном свете представителей сильного пола (табуирование). В плане оппозиции «истинное – ложное» авторы феминистских текстов к «ложному» относят любые утверждения, допускающие психофизиологические и биологические основания гендера в какой угодно, даже самой минимальной степени.
В то же время в феминистских текстах тезис о биологической обусловленности гендера упоминается постоянно, чем предполагается двойная аргументация. С одной стороны, подчеркивается его очевидная ошибочность, на основании которой выстраивается уродливый патриархальный социальный порядок; с другой – этот ложный тезис необходим для идеологической легитимации данного порядка. Именно на нем строится системная дискриминация мужчинами женщин, пронизывающая все аспекты социальных отношений. Виды подобной дискриминации исходят из якобы искаженных установок, перечень которых выходит за рамки собственно гендера. Это сексизм - представление о превосходстве мужчины над женщиной; гомофобия - установка на превосходство гетеросексуалов над гомосексуалами; эйблизм - превосходство полностью трудоспособных людей над частично трудоспособными (инвалидами); трансфобия - негативное отношение к людям с трансгендерной и транссексуальной ориентацией. Эти установки – суть объекты непримиримой борьбы феминизма.
Одним из важнейших объектов обсуждения феминистского дискурса является политикоправовой сегмент общественных отношений, в рамках которого ведется спор собственно с государственной политикой. Как считает Д. Серенко, в России наличествует вопиющий индекс гендерного неравенства, согласно которому по уровню доступа женщин к общечеловеческим (мужским) правам наша страна оказывается между Угандой и Бурунди. Подобное неравенство устранимо лишь посредством системных изменений1.
Наиболее часто упоминаемыми темами являются протесты в отношении гомофобного запрещения однополых браков (прежде всего лесбиянок) и репродуктивной политики. В отношении первого высказывается аргумент о праве любой женщины на собственную культурную принадлежность, праве любить и не быть исключенной из окружающего мира. Относительно второго речь идет о феномене репродуктивного насилия, заключающегося в навязывании роли матери и попытках запретить аборты, санкционируемые Русской православной церковью (моратории в рамках проводимых акций «Подари мне жизнь»). Аргумент феминизма – государство оказывает недостаточную социально-экономическую поддержку матерям, и вместо счастья материнства зачастую получаются матери, живущие на границе бедности и нищеты2.
Пожалуй, основным объектом непримиримой критики феминисток служит сексизм – явление, пронизывающее, по их мнению, все значимые сферы социальной жизни, постоянно создающее неблагоприятные для женщин социальные, политические и культурные констелляции. Как утверждает Н. Водвуд, сексизм формирует гендерные стереотипы – «настоящего мужчины» и «настоящей женщины», что никаким образом не связано с изначальными природными предрасположенностями – мужчины от природы не насильники, а женщины от природы не жертвы3.
Одной из наиболее распространенных тем, характеризующих сексизм, причем как в социальном ракурсе, так и в правовом, является домашнее насилие. По сведениям феминистской правозащитницы А. Поповой, в России вербальному насилию подвергались 38 % женщин (25 млн), физическому – 20 (13), сексуальному – 4 % (3 млн женщин)4. Причины домашнего насилия в идеологии феминизма видятся разнообразными. В культурном плане это поговорка «бьет – значит любит», т. е. общественное мнение считает нормой, когда муж бьет жену. С точки зрения финансовой зависимости женщины, не располагающие собственными источниками дохода, зачастую вынуждены терпеть насилие, поскольку им некуда деваться. Причем масштабы насилия обратно пропорциональны степени занятости женщины и величине ее заработка. Часто причинами семейных конфликтов в России являются экономические проблемы. Неспособность обеспечить семье удовлетворение базовых потребностей нередко приводит мужей к употреблению алкоголя. Согласно данным Росстата, ежедневное распитие спиртных напитков мужчиной приравнивается к 19 % вероятности, что в течение года им будет применено к жене физическое или сексуальное насилие. Эта же вероятность снижается в 10 раз (2 %), когда мужья пьют редко1.
Наконец, мощным фактором домашнего насилия феминизм считает правовой аспект и работу полиции. На самом высшем уровне неоднократно объявляли о приватизации проблемы домашнего насилия, навешивая на него ярлык частного дела. По сведениям А. Поповой, закон против домашнего насилия принят в 127 государствах. В границах Европы и Центральной Азии таких законов не существует лишь в России, Узбекистане и Армении. Наша страна – в числе 18 стран, законы которых хуже всего защищают женщин от насилия2. В России побои внутри семьи фактически декриминализированы, т. е. домашний агрессор законодательно несет ответственность административными штрафами и только в случае, если характер насилия вписывается в рамки уголовной статьи, получает «реальное наказание». При этом отечественная полиция по минимуму вмешивается во внутрисемейное насилие, видя здесь культурную норму и интересуясь только смертельными случаями или случаями нанесения тяжких телесных повреждений. Отсюда домашние агрессоры особо не боятся вмешательства полиции, а жертвы не видят в ней защиты.
Помимо обязательного принятия закона о домашнем насилии, сторонники феминизма настаивают на применении так называемых охранных ордеров. Суть их заключается в том, чтобы создать между реальным или потенциальным насильником и жертвой объективную дистанцию – запрет на приближение3. Такие ордера введены в 124 странах, к которым Российская Федерация не относится. А. Попова в связи с этим предлагает два вида охранных ордеров: полицейский ордер, выдаваемый без судебного решения на момент опасности; судебный ордер, который выдается уже судебным решением на долгосрочной или постоянной основе4.
Особое внимание идеология феминизма уделяет сексуальному насилию, видя здесь следствие не только слабой правовой защищенности, но и культурных причин – распространенной в общественном мнении установки «сама виновата», снимающей ответственность с насильников. Согласно данным Д. Серенко, каждая третья или четвертая женщина пережила насилие или попытку насилия, причем почти все из них вынуждены выслушивать мнение, что сами спровоцировали это. Во многом поэтому только 15 % женщин заявляют о совершенном в их отношении преступлении, и в большинстве случаев в качестве насильника выступает родственник или знакомый5.
Комментируя представленную в феминизме проблему домашнего насилия, следует признать ее реальность, а также согласиться с доводом о необходимости дополнительного правового регулирования. Тем не менее сторонники феминизма опускают некоторые моменты, на которые объективности ради следует указать в рамках научного анализа.
-
1. Редуцировать упомянутую поговорку «бьет – значит любит» к искусственному конструкту, возникшему из патриархатного порядка, значит несколько упрощать дело. Мы полагаем, что подобное выражение есть социальное представление, выступающее «бродилом» культурных стереотипов и «здравого смысла». В качестве первых можно указать на другие расхожие выражения, связанные по смыслу с упомянутым, например «от любви до ненависти – один шаг» и т. п. Здравый смысл, или обыденное знание, усваивается в ходе погружения в реальную социально-символическую среду, являясь продуктом впечатлений от реальной действительности (Московичи, 1995: 8). Здесь нередко можно узреть отраженные в поговорке психические и даже психофизиологические основания, что констатирует популярная6 и художественная литература. Даже такой авторитет в области гендерных отношений, как И. Кон, не считает возможным отрицать ее биологической составляющей (Кон, 2009).
-
2. В современном мире типичны случаи проявления насилия как мужчинами в отношении женщин, так и женщинами в отношении мужчин. Количественный перекос первых над вторыми объясняется в том числе тем, что мужчины зачастую предпочитают скрывать случаи насилия по отношению к себе в соответствии с канонами традиционной маскулинности (Тимко, Тимко, 2016). Юридические эксперты С. Тимко, И. Кузнецова приходят к выводу: «Женское насилие в отношении супругов – весьма распространенное, но латентное явление» (2017: 54).
Весьма любопытно отношение сторонников феминизма к современному феномену проституции и расширяющейся порноиндустрии. Российские феминистки данные факты сводят к сексуальной эксплуатации, так как женщины «часто попадают в эти обстоятельства против своей воли (будучи, например, девочками-подростками или жертвами траффикинга)», часто находятся на грани выживания, к ним применяются физическое, сексуальное насилие и серьезное психологическое давление, отсюда логично, что проституированные женщины наиболее часто подвержены ментальным расстройствам1. Подобное объяснение справедливо лишь отчасти. Изучение биографий порноактрис, во множестве представленных в сети и журналистских расследованиях2, наводит на мысль о том, что не так уж редко следует вести речь о свободном, а не вынужденном профессиональном выборе.
Одно из важнейших направлений в дискурсе феминизма – критика неравных жизненных шансов в плане профессиональной самореализации, что якобы четко иллюстрирует сексистский характер современного российского общества. Здесь акцент делается на феномене «стеклянного потолка», разрыве в оплате труда, перечне запрещенных для женщин профессий и так называемой «второй смене».
«Стеклянный потолок» предполагает невидимые ограничения для женщин в производственных и политических структурах, препятствующие достижению высоких управленческих статусов. В России женщины мало представлены в аппаратах власти и многих других привилегированных сферах труда. Логика феминизма в ходе объяснения, отбрасывая биологические и психофизиологические различия, делает упор на искаженных общественных установках, заключающихся в том, что женщина сама по себе более слабый руководитель, чем мужчина, наверняка уйдет в декрет, ориентирована на семью, в связи с чем политика и деловая карьера – не женское дело.
К этому примыкает факт запрета в нашей стране на 456 профессий для женщин, действующий с 1974 г. Это ограничения женской работы в хлебопекарном производстве, на морском, воздушном, железнодорожном и речном транспорте, в качестве машинистов специальной техники и водителей большегрузных автомобилей. В 2000 г. подобный список дополнился профессиями машиниста электропоезда, боцмана, матроса, водителя автобуса междугородных и международных маршрутов, а с 2017 г. – рядом военных профессий3. Можно полагать, что принятие данного перечня диктовалось в первую очередь заботой о здоровье женщин – возможных будущих матерей. Однако апологеты российского феминизма активно борются за отмену этого документа, аргументируя тем, что он ущемляет права женщин, не обеспечивая возможностей полноценной самореализации для многих из них.
В силу ограничений «потолка» и недопуска женщин в привилегированные трудовые сегменты в России имеет место объективный разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами в среднем на 30 %. Непосредственно с этим связывается и феномен женской бедности – матери-одиночки в России являются одной из наиболее социально незащищенных категорий населения. Налицо действительно серьезная задолженность бывших супругов на содержание несовершеннолетних детей – свыше 100 млрд р. на конец 2017 г.4
Наконец, женщинам приходится брать на себя тяжесть «второй смены», когда, помимо основной занятости, именно на женщин возлагается большая часть никак не оплачиваемой домашней работы, связанной главным образом с решением бытовых задач, а также уходом за детьми и престарелыми родственниками. Подобный феномен имеет транснациональную прописку – по данным 2016 г., собранным в 217 странах, за всю жизнь у женщин накапливается около 23 лет «второй смены», от которой в основном избавлены мужчины5.
В то же время в российских условиях нельзя не признать региональные отличия в актуализации проблематики, выдвигаемой феминизмом. Речь идет о регионах Северного Кавказа, где сохраняющиеся этнокультурные традиции действительно идут вразрез со стремительно меняющейся социально-экономической и социокультурной ситуацией. По данным, приводимым Д. Се-ренко, около 1,2 тыс. жительниц Дагестана, Чечни и Ингушетии в возрасте до 3 лет подвергаются калечащим операциям якобы в качестве профилактики измен. Многочисленны случаи, когда женщин крадут и увозят против их воли, в то время как семьи уже не принимают «украденных» обратно; полностью не изжиты так называемые убийства чести – убийства женщин близкими родственниками за разговоры и слухи о недопустимом сексуальном поведении и даже за неподобающий вид. Согласно лишь известным данным, жертвами подобных преступлений в названных регионах стали 39 россиянок6. Помощью таким жертвам занимается общество «Марем», предоставляя социальную и юридическую поддержку.
Значительное внимание российский феминизм придает социокультурной составляющей , указывая на гендерные стереотипы, якобы формирующие надуманные образы «настоящего мужчины» и «настоящей женщины». Подобные образы никаким образом не связываются с природой – мужчины лишены врожденных инстинктов насилия, как и женщины не являются изначальными жертвами. Гендерные стереотипы служат источниками совершенно несправедливых норм: так, за адюльтер мужчина порицается многократно меньше женщины и к феномену распущенного мужчины общественное мнение куда более толерантно, чем к феномену распущенной женщины1.
Огонь феминистской критики в значительной степени направлен на бодишейминг – навязывание стандартов красоты, которым должна следовать женщина: быть всегда и везде «красивой», с обязательным макияжем, на каблуках, стройной, цветущей и вызывающей у мужчин только положительные эмоции. В связи с этим для женщины, кроме «второй смены», существует еще и «третья», когда она, вернувшись с работы и сделав домашние дела, должна еще заняться собственной внешностью. Протест в отношении подобных стандартов выражается в их демонстративном отрицании феминистками – они подчеркивают, что не красятся, не бреют ноги и подмышки. Наконец, в большинстве картин известной феминистской художницы Ю. Цветковой изображается обязательно покрытая волосами вагина2.
Сторонницы отечественного феминизма, представляя собственные взгляды в системном ракурсе, доказывают, что от гендерных стереотипов мужчины страдают не меньше. Ими вводится понятие «токсичная маскулинность», толкуемое как совокупность тех сексистских идей о маскулинности, которые делают акцент на доминировании, агрессии и насилии: «мальчики не плачут», «мальчики сильные и они должны защищать девочек», «мужчина должен добиваться своей избранницы», «не служил – не мужик» и т. п. Итогом подобных идей становится закрепление нормы, что мужчина главнее женщины, также с их помощью «сильным полом» легче манипулировать, накладывая на него традиционно «мужские» функции: работа на заводе, война и т. д. Однако это существенно ограничивает собственно мужчин, поскольку, как говорят феминистки, мужчина может не хотеть быть сильным и агрессивным, но заниматься вышиванием, сидеть с ребенком и иметь возможность поплакать3.
В данном фрагменте логика феминистского дискурса сталкивается с научными рассуждениями И. Кона. Последний, констатируя характерные для модерна и постмодерна меняющиеся стандарты маскулинности в сторону их смягчения, тем не менее видит пределы динамики цивилизационной феминизации. Имеются глубинные константы мужского сознания и поведения, которые могут лишь видоизменяться, но не исчезают. Это достижительские ориентации; потребность отличия от женщин – быть мужчиной, а значит, не быть женственным; гомосоциальность (солидарность со своим полом); принадлежность к иерархическому мужскому сообществу, агрессивность и склонность к насилию; когнитивные гендерные различия; особенности мужской сексуальности4.
Современная российская литература не лишена феминистских мотивов, которые можно найти прежде всего в женской прозе. Здесь одним из важнейших моментов выступает пересмотр категории архетипа в плане его содержательной трактовки. При этом ставка делается на банальный натурализм, акцентирование на физиологических аспектах женской жизни, а конкретно – на сугубо сексуальных реалиях и проблемах (А. Козлова, Т. Москвина). Пересматривается один из главных тезисов К.Г. Юнга, состоящий в том, что архетип генетически запрограммирован. Писатели с феминистским уклоном, в свою очередь, гендерные архетипы представляют как подвижные культурные конструкты, тем самым инициируя представление о возможности формирования новых архетипов. В то же время отнюдь не отрицается наличие априорного женского знания, глубоко укорененного в коллективном бессознательном, однако подавляемого как в мире мужчин, так и внутри самого женского «я» (Большакова, 2010: 168). Как указывает не разделяющая феминистских взглядов ученый-филолог А. Большакова, феминизм легализовал в творческом самосознании некоторых женщин образ «Первозданной Женщины». Именно женское начало якобы образовало «своеобразную оппозицию расчеловечиванию человека, выступив на защиту женской природы, подавляемой техногенной мужской цивилизацией» (Большакова, 2010: 172).
Между тем в трудах современных психологов-женщин подобная точка зрения феминистской литературы признается скорее надуманной. Универсальный архетип Героя чаще всего ассоциируется исключительно с мужским началом. Собственно, в теории К.Г. Юнга в архетипах Анимы и Анимуса наличествуют оба начала – как мужское, так и женское. В то же время они имеют различную содержательную наполненность в той или иной этнической культуре. Так, в восточных культурах женщина как главный герой встречается весьма редко. В русских сказках и былинах немало мудрых и сильных женских персонажей, порой обладающих способностью к волшебству. Однако в большинстве своем женщины выступают в роли помощниц, советчиц, а также жертв, которых необходимо спасти, и т. д. Образ Царевны в русских былинах наделяется красотой, умом, женственностью и добротой, основная сюжетная роль которой обычно ограничивается любовным интересом Героя. Царевна помогает Герою добиваться своих целей, поддерживая и мотивируя его на геройство (Торотоева, 2019: 94).
Политическая сторона феминистского мировоззрения тесно связана с культурной. Например, цикл рисунков упомянутой Ю. Цветковой «Женщина не кукла» делает акцент на трансляции установок, касающихся как развенчания мифов о красоте («У живых женщин есть волосы на теле, и это нормально!», «Не идеальная кожа»), так и поддержания требований меньшинств, а именно легализации семей нетрадиционной сексуальной ориентации: «Семья там, где любовь, – поддержите ЛГБТ-семьи», сопровождающихся демонстрацией рисунков лесбиянских и гомосексуальных пар с детьми.
Логика сторонников радикального феминизма вполне закономерно исходит из базовых установок об исключительной порочности не только существующей в России политической системы, но и культурной среды. С этих позиций им удобнее всего объяснять неприятие социальным большинством их идей. Например, А. Ходырева, мать Ю. Цветковой, констатируя общегородскую травлю и преследования со стороны властей Комсомольска-на-Амуре, объясняет их тем, что данный город – город ГУЛАГа, где живут исключительно «по понятиям». Юлия – яркая необычная девочка, а ее не принимают, кричат матом вслед и т. п. Как убеждена А. Ходырева, большинство людей «бесятся», видя необычность ее дочери, поскольку всю жизнь принимают правила игры системы, основанной на иерархии. А. Ходырева полагает, что многие люди наверняка поддержали бы ее, но боятся потерять работу, боятся системы. Ментальность русских людей – страх. Отсюда заключается, что российскому социальному большинству традиционно присуща ненависть к свободному человеку в несвободном мире1.
Ю. Цветкова не училась в традиционной российской средней школе, закончив студию «Альтернативное образование», основанную ее матерью в 1996 г. Затем продолжила обучение уже в лондонской образовательной организации – London Film School. Не останавливаясь подробно на оценке собственно рисунков Ю. Цветковой, подчеркнем только неоднозначное к ним отношение в той же сети Интернет. Тем не менее названная феминистская художница признана в западном мире – она входит в список ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 г. Би-би-си, является обладателем премии «Женщины года – 2020» журнала «Гламур», а также премии Ассоциации театральных критиков в номинации «человек года» за 2020 г.2
Фрагменты феминистского дискурса, связанные с деятельностью Ю. Цветковой и А. Ходыревой, наталкивают на предположение, что к определенным сторонникам российского феминизма применима не только модель «общества меньшинств», с позиции которой Л. Ионин описывает социокультурную среду постмодерна (2010: 255–256), но и более ранний концепт «малого народа», разработка которого связана прежде всего с трудами И. Шафаревича. Представители «малого народа» противопоставляют себя остальному «большому народу», декларируя собственное культурное превосходство. «Большой народ» в свете данной логики наделяется негативной презентацией вплоть до демонизации. Его представители характеризуются в качестве носителей рабского холуйского сознания, отсутствием личного достоинства, нетерпимы к чужому мнению, завистливы, признают только деспотическую власть (Шафаревич, 1994: 88–89). Между тем западный мир представлен как более прогрессивный и передовой, но оценить его стандарты и жить по ним способны только немногие реально свободные люди, отвергающие привычные стереотипы.
Мировоззрение Ю. Цветковой, А. Ходыревой сопоставляется со стандартами русофобского мышления, предложенного С. Сергеевым. Он предлагает четыре критерия, отличающие русофобию от здоровой критики. Во-первых, признание за русскими некой онтологической и/или генетической ущербности; во-вторых, экзистенциальная ненависть или страх по отношению к ним; в-третьих, систематическое и сознательное желание им вреда, а не блага; в-четвертых, отрицание самих понятий «русский», «русскость» как базовых для политического и культурного дискурса (Сергеев, 2013: 66–67). Как видим, взгляды и установки названных личностей вполне вписываются в два первых признака.
Какие заключения напрашиваются на основании изучения отечественного феминистского дискурса?
В российском интерсекциональном феминизме просматривается влияние более широкого леволиберального дискурса, но его содержательная конкретизация во многом есть отражение фактов социальной действительности, связанных с функционированием сложившегося гендерного порядка, который в общих основах зиждется на сходных структурных принципах гегемонной маскулинности (Р. Коннелл). Сторонникам феминизма свойственно абсолютизировать конструктивистскую сущность социальных различий между мужчиной и женщиной, на чем строится вся логика их дискурса. Между тем И. Кон, симпатизировавший феминизму и выражавший ему политическую поддержку, неоднократно указывал на подобный методологический изъян, констатируя, что рамки полового диморфизма (проще говоря – биологический фактор) существуют всегда1. Конструктивной стороной следует признать то, что отечественный феминизм стимулирует определенную рефлексию, заставляя взглянуть на некоторые социальные факты и феномены с позиции критического ракурса, что позволяет глубже вникнуть в их реальную или потенциальную проблематику. Тем не менее сторонники феминизма обычно навязывают решение данной проблематики, исходя не столько из конструктивного ее осмысления, сколько из собственных идеологических установок, принимаемых априорно.
Ряд требований, исходящих из дискурса феминизма, обоснованно отражают назревшие общественные проблемы. Это касается домашнего и сексуального насилия, разрыва оплаты труда, феномена «стеклянного потолка», «неженских» профессий, а также некоторых патриархальных стандартов культур кавказских народов. Более неоднозначна проблема, которую феминистки рассматривают как репродуктивное насилие. Возможно, запрет на аборты действительно стоит сопровождать усилением социальной политики в области охраны материнства. Впрочем, перечисленные социальные феномены относятся к тем сегментам общественных отношений, которые в целом подвержены последовательным изменениям в сторону большей адекватности.
Куда менее обоснованно выглядят социокультурные претензии феминизма как в критике бодишейминга, так и в плане возможностей безграничной феминизации мужчин. Видя в боди-шейминге (миф о красоте) исключительно продукт искусственного гендера и выступая за его минимизацию, а то и ликвидацию, феминизм в качестве альтернативы выдвигает натурализм, тем самым оспаривая эстетические, а порой и гигиенические нормы. Политическое по сути требование феминизма легализировать ЛГБТ отражает диффузное влияние политкорректного проекта, являющегося продуктом западного глобализма, но пока еще в достаточной степени не закрепленного в России, главным образом ввиду противодействия со стороны традиционных культурных ценностей. В лице отдельных своих представителей (Ю. Цветковой) феминистский дискурс имеет точки пересечения с русофобским дискурсом. В подобных случаях феминизм в России приобретает контркультурный смысл, в целом демонстрируя антагонизм, неприятие ряда доминирующих черт и смыслов отечественной культуры.
На основании сделанных выводов можно констатировать частичное подтверждение нашей гипотезы, которая в то же время может быть скорректирована. Феминизм входит в противоречие не просто с традиционными основаниями отечественной культуры, а, пожалуй, с культурными универсалиями, касающимися эстетики прекрасного женского тела и пр. Здесь приходится наблюдать своеобразный результат распространенного методологического ограничения – абсолютизации конструктивистской парадигмы применительно к гендерным отношениям. Естественно, что следующим шагом по изучению дискурсионного поля российского феминизма должно стать решение проблемы характера воздействия феминистской идеологии на общественное сознание. В рамках этой задачи планируется выявление категорий попутчиков, приверженцев, активистов, что будет реализовано в следующих работах.
Список литературы Идеология российского феминизма в свете гендерных процессов (анализ феминистского дискурса)
- Больц Н. Размышление о неравенстве. Анти-Руссо. М., 2014. 270 c.
- Большакова А.Ю. Гендер и архетип: «Первозданная женщина» в современном мире // Общественные науки и современность. 2010. № 2. С. 167–176.
- Гришаева Е.А. Социология в блогосфере // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Общественные науки. 2016. № 1 (5). С. 48–54.
- Давыдов А.А. Социология изучает блогосферу // Социологические исследования. 2008. № 11. C. 92–101.
- Ионин Л.Г. Апдейт консерватизма. М., 2010. 304 с.
- Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. М.; СПб., 2012. 237 с.
- Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. 496 с.
- Купчинская М.А., Юдалевич Н.В. Клиповое мышление как феномен современного общества // Бизнес –образование в экономике знаний. 2019. № 3. С. 66–70.
- Лядова А.В. Образ здоровья в блогосфере: социологический анализ (часть 1) // Вестник Московского университета.
- Сер. 18: Социология и политология. 2023. Т. 29, № 3. С. 28–49. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2023-29-3-28-49.
- Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд // Психологический журнал. 1995. Т. 16, № 1. С. 3–18.
- Мусихин Г.И. Очерки теории идеологии. М., 2013. 288 с.
- Сергеев С.М. Как возможна русская русофобия? Записки ангажированного историка // Вопросы национализма. 2013. № 1. С. 66–85.
- Тимко С.А., Кузнецова И.А. Женское насилие в отношении супругов: особенности проявления и возможности профилактики органами внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 4 (71). С. 50 –54.
- Тимко С.А., Тимко В.П. Мужчина – жертва семейного насилия: Актуальность проблемы в России // Виктимология. 2016. № 3 (9). С. 33–40.
- Торотоева А.М. Основные гендерные архетипы в русской культуре на примере сказок // Социальные и гуманитарные науки.
- Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. 2019. № 3. С. 92–98. https://doi.org/10.31249/rsoc/2019.03.05.
- Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 47–96.
- Шафаревич И.Р. Русский вопрос // Сочинения: в 3 т. Т. 2. М., 1994. С. 85–230.