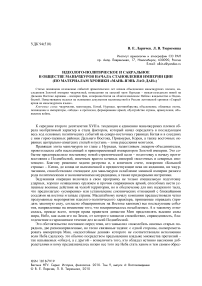Идеолого-политическое и сакральное в обществе маньчжуров начала становления империи Цин (по материалам хроники «Мань-вэнь лао-дан»)
Автор: Ларичев Виталий Епифанович, Тюрюмина Людмила Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изложению событий драматических лет начала объединения маньчжурских племен, наследников Золотой империи чжурчжэней, возведению на ханский трон Нурхаци - вождя-созидателя новой на Дальнем Востоке державы - империи Цин, соперника Китая на «благословленное Небом» владычество в Поднебесной. Повествование ведется на основании документов малоизвестной в России летописной хроники «Старый архив на маньчжурском языке».
Чжурчжэни, маньчжуры, китай, нурхаци, противоборства, объединение, облавные охоты, посвящение в императоры, "обиды" и претензии, формирование армий, обустройство страны, нравоучения, объявление войны
Короткий адрес: https://sciup.org/14737281
IDR: 14737281 | УДК: 94(510)
Текст научной статьи Идеолого-политическое и сакральное в обществе маньчжуров начала становления империи Цин (по материалам хроники «Мань-вэнь лао-дан»)
К середине второго десятилетия XVII в. тенденция к единению маньчжурских племен обрела необратимый характер и стала фактором, который начал определять в последующем весь ход основных политических событий на северо-восточных границах Китая и в соседних с ним горно-таежных районах Дальнего Востока, Приамурья, Кореи, а также восточных окраинах центрально-азиатских степей и пустынь - зоны расселения монголов.
Правящая элита маньчжуров во главе с Нурхаци, талантливым лидером-объединителем, провозгласила себя наследницей и правопреемницей императоров Золотой империи. Это событие предопределило постановку новой стратегической цели - подготовку к началу противостояния с Поднебесной, извечным врагом кочевых империй «восточных и северных иноземцев». Благому решению задачи разгрома и, в конечном счете, покорения «Большой страны» - Китая, до конца не выполненной в предшествующие века ни киданями, ни чжур-чжэнями, способствовало очевидное для маньчжуров ослабление минской империи разного рода политическими и экономическими неурядицами, а также придворными интригами.
Задуманная операция включала в свою программу не только специальную подготовку ударных, хорошо оснащенных оружием и прочим снаряжением армий, способных вести успешные военные действия на чужой территории, но и обеспечение для них надежного тыла, что предполагало «усмирение» или установление союзнических отношений с ближайшими соседями на востоке и западе страны. Масштабному началу компании предшествовали четко продуманные мероприятия идеолого-политического характера, призванные оправдать (придать законную силу, согласно общепринятым на Востоке канонам) все последующие события, направленные на изменение того, что воспринималось незыблемым. А к таковому относилась, прежде всего, потеря права правителя династии Мин представлять высшие силы мира, Небо, как сына его на Земле, от которого зависели спокойствие, справедливость, благоденствие и гармоничное течение дел во всей Поднебесной.
Это обстоятельство поставило перед теми, кто замыслил «поколебать основы» старых порядков, две разнонаправленные, но тесно связанные задачи: с одной стороны, скомпрометировать императора Мин, «недостойные деяния» которого не соответствовали исполнению воли Неба (делалось это обычно посредством предъявления владыке множества претензий -так называемых «обид»), а с другой - возвеличить того, кто обладал истинно высокими добродетелями и кому предназначалось волею все того же Неба стать ханом и тем самым обрес-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение © В. Е. Ларичев, Л. В. Тюрюмина, 2010
ти законный статус «Сына Неба», способного вершить дела в Поднебесной в должном порядке.
Как практически осуществлялось то и другое, нашло отражение в документах хроники «Мань-вэнь лао-дан» 1, повествующих о «претензиях» маньчжуров в адрес минского императора и о личностных качествах Нурхаци как воителя-вождя и высокой мудрости человека.
Учитывая пропагандистски оправдательную цель компании, не стоит удивляться, что описание деяний Нурхаци как общественного лидера носит на страницах летописи апологетический характер. Примечательно, однако, что раздел этот весьма обширен, а предшествует он несоразмерно короткому повествованию о торжественной процедуре возведения вождя на ханский престол, событии великой значимости в истории маньчжуров – закреплении ведущей роли их во всем центрально-азиатском и дальневосточном регионах, включая северные провинции Китая.
Блестящие качества организатора военных баталий проявились в походе Нурхаци против маньчжурского племени Ехэ-курэнь, когда ему исполнилось 25 лет. Воинов в его распоряжении было мало, и к тому же не все они имели защитные латы. Но, обладая «чрезвычайной хитростью» и «искусным мастерством в муштровке» подчиненных, он сумел рационально выстроить тактику боевых столкновений с врагами – неотступно преследовать их отряды, не давая им «ни отдохнуть, ни подумать». Победы ему обеспечивало и умение приспосабливаться к ведению боя в любой местности. В сражениях он лично демонстрировал образцы приемов владения оружием – превосходно умел стрелять из лука, обдуманно отправлял точно в цель одну стрелу за другой, а когда требовали обстоятельства, то пускал в ход меч, метко нанося удар за ударом, пока противник не оказывался поверженным. Летописец в этой связи высказывал мнение о том, что успехи Нурхаци следовали один за другим вследствие, видимо, содействия и помощи ему самого Неба.
Молодой вождь придавал особое значение организации разведывательной службы – передовые пикеты его воинов всегда обеспечивали раннее оповещение о передвижениях отрядов противника, что приводило к разгрому их, быть может, опять-таки не без помощи «духов Неба», которые ограждали от опасностей воинов Нурхаци, уводя от цели «летящие стрелы, рубящие мечи и колющие копья» врагов, и, напротив, способствуя уничтожению противника стрелами, копьями и мечами тех, кого вел в бой удачливый вождь. Участники сражений замечали, уверяет летописец, что воины, «с большой любовью думающие о Нурхаци», никогда не погибали.
Объединитель племен маньчжуров выработал оптимальные варианты ведения сражений с противниками – противостояния войскам в равнинных местностях от Кореи до Монголии, а на юге, в Китае, его отряды избегали столкновений «лицом к лицу» с врагом, но истребляли его, внезапно нападая с флангов и тыла. Когда противник, намереваясь вступить в бой, выходил из крепости, то Нурхаци немедленно, до построения врагов в боевые порядки, нападал на покинувших укрепление и уничтожал их, не допуская ухода в ворота. Осада городов велась сразу же, при подходе к ним, «без промедления на час» – стены взламывались, воины быстро проникали внутрь крепостей и захватывали их.
Сколь бы успешными ни были походы Нурхаци, сколько бы народов он ни покорил, летописец счел нужным подчеркнуть две благородные особенности его: никогда притом «не сказал злого и надменного слова». Даже побеждая «неразумных и невежественных людей», обращался к ним наставительно, поучал и призывал запомнить сказанное. Нурхаци, полагал летописец, конечно, догадывался, обдумывая свои успехи, что «Небо возлюбило его». Это, однако, побуждало объединителя маньчжуров не принимать «высокие намерения», а ограничиваться принятием лишь «малейших намерений», ибо свершал все в жизни, бережно оберегая от невзгод государство и всячески остерегаясь промахов.
Детство Нурхаци прошло в бедности и было не лишено горестей. Его отличали прямодушие, немногословие и неразговорчивость. По обретении авторитета и власти жестко реагировал на распри среди родственников, тяжело наказывая тех, кто не поддавался увещеваниям, а совершивших тяжкие преступления казнил, если они даже были родственниками. Но бывших врагов мог удостоить похвалы и повышения в чине, если они отличались успешным ведением служебных дел. Поскольку честность и доброта были присущи Нурхаци изначально, то самые близкие родственники добровольно передали ему ведение всех текущих дел до полного их завершения.
Нурхаци высоко ценил, повышал в чине и предоставлял богатства тем людям, у которых в правилах было увещевать подчиненных, мудро наставлять их и начальников равно, что при общении с ними, что за спиной у них. Ему претили постоянные, не знающие меры попрошайки чинов и богатств. Он предпочитал покровительствовать тем, «кто никогда не просит», отчего не может приобрести что-либо для себя. Проникаясь душевно заботами таких людей «всем сердцем», Нурхаци жаловал подарки «неимущим и бедным», которые принимали их с радостью и благодарностями. Даже отходя ко сну, он не переставал обеспокоенно раздумывать о возможных неразрешимых материальных, бытовых и семейных заботах своих друзей и подчиненных, о многих голодающих и страдающих простолюдинах. Вот почему, отдохнув и отойдя от сна, Нурхаци имел обыкновение, повинуясь сердцу своему и сострадая людям, немедленно отдавать распоряжения: «Тому человеку дать жену! Тому человеку дать коня! Тому человеку дать платье! Тому человеку дать хлеба!».
Изложенное стало, по-видимому, стимулом для фундаментальной значимости события в истории маньчжуров: в год Красного дракона, в день обезьяны 1-го месяца (начало 1616 г.) на «Общем Совете» первостепенные бэйсы (князья) и вельможи обменялись мыслями по случаю необходимости прекратить страдания людей и государства из-за отсутствия должного статуса у Сурэ-куньдулэнь-хана, Нурхаци. Он, «болеющий душой о голодающем народе, воспитатель мудрецов», вне всяких сомнений появился на свет волею самого Неба. Это оно породило хана и благословило его на дела словами: «Пусть сделает так, чтобы благоденствовало наше государство!»
Мнение «Общего Совета» вскоре было доведено до сведения всех прочих бэйсов и вельмож «восьмизнаменных». Они незамедлительно согласились с решением Совета и, прибыв в ставку, разместились «в восьми местах» по периметру четырехугольного пространства и в углах его. Восемь чиновников, отделившись от всех, выдвинулись вперед и встали на колени. Позади них, и тоже на коленях, разместились бэйсы и вельможи. После этого к группам коленопреклоненных вышли из тронного зала ближайшие соратники Нурхаци - стоявший по правую руку от хана Адунь-ся и стоявший по левую руку Эрдэни-бакси. Они приняли грамоты с решениями, показали их хану, а затем положили на стол. Далее последовал акт, завершивший первую часть сакральной церемонии: Эрдэни-бакси, став по левую руку от Нурхаци, провозгласил его Гэнцзень-ханом, «Премудрым государем», сопроводив наречение словами: «Пусть он печется о благоденствии всех государств!»
Вторая часть возведения в высший ранг правителя государства маньчжуров включала следующие церемониальные акты: все коленопреклоненные встали; к ним вышел из тронного зала «Сын Неба». Он трижды бил челом Небу, поклонился «вставшим на ноги», после чего возвратился обратно и снова воссел на трон. Бэйсы и вельможи «восьмизнаменные» один за другим трижды поклонились до земли Гэнцзень-хану, «хотя и были уже в [преклонных] летах».
Так началась официальная история империи Цин - последней из иноземных династий Поднебесной. Первый глава ее, Нурхаци, оказался, как засвидетельствовали записи в хронике, воистину «Премудрым государем». Он начал с того, что, «сердцем страдая» при виде невзгод людей и животных, перемещающихся по стране неблагоустроенными дорогами, приказал сделать доступными крутые перевалы, вырубить в труднодоступных местах лес, построить мосты через реки и осушить болота. Никого не обделял вниманием Гэнцзень-хан -ни молодых, ни взрослых, ни злых, ни добрых, а тем более «людей скорбящих», слепых, хромых и нищих. Для всех у него находились поучительно добрые слова.
«Попечение о государстве» оставалось главной заботой Нурхаци. В приграничных местах по его указу были учреждены заставы, а во всех землях страны - почтовые станции. Дела управления решали «честные добродетельные» чиновники, специально отобранные для того восемь амбаней и сорок судебных следователей. В конце каждой пятидневки государь заслушивал в присутственном месте амбаней, побуждая их высказывать соображения о текущих делах в стране, беспрестанно информируя его обо всем происходящем - случаях праведных и лживых. Подавая пример чиновному люду, Нурхаци не принимал подношений -изделий из золота и серебра, не бражничал и был скромен в еде.
Основой законотворчества и благодатных для всего народа обычаев стало попечительство. Нурхаци проявлял «ненасытность на хорошие законы и добрые установления», требуя записывать их на память, стараться исполнять и отрешаться от намерений злых и несправедливых. Быть честным, мудрым и добродетельным - означало для него удостаивать милостей «голодающих и страдающих простолюдинов и домашних рабов», постоянно печься о пропи- тании людей, которых Небо вверило в руки правителей. Им, живущим в изобилии, следует не проматывать бессмысленно богатство, а делиться, распределяя его между страждущими поровну. За это они в ответ получат великое благо - одобрение Неба, а значит, и покровительство его в делах. От обладающих большими титулами и властью вельмож Нурхаци требовал разузнавать о полезных престолу людях всюду, даже в малых деревнях провинций, и понуждать их служить с пользой в системе управления государством, в армии и законодательных органах (будь они осведомлены о существующих в древности правилах и обычаях). Таких служителей нужно всячески поощрять - восхвалять и повышать в чинах. Напротив, «злых людей», думающих только о богатстве, жадных к приобретательству, чуждых честности и добродетелей, надобно устрашать - понижать в чинах и даже лишать жизни.
Нурхаци многократно просвещал придворных относительно мудростей, изложенных в книгах буддистов, об их словах, «высоких, мастерских и многоразличных», направленных на то, чтобы сердце человека было преданным идеалам веры Учителя и великодушным к людям. Это следует учитывать, возвышая «справедливого человека», а не его знатное происхождение. Сам же вельможа не должен отказываться от возвышения достойных людей, несправедливо думая, что незачем это делать, ибо сам он превосходит по способностям любого из них. Не надо мучить себя лишениями, чтобы получить благо в грядущей жизни. Поступать так - означает думать только о себе. В действительности же следует направлять на истинный путь дела подчиненных теперь же, пресекать «злые намерения» иных народов, всемерно побуждать людей к честным и добрым делам в жизни на этой земле, а не «в будущей жизни». Славу теперь приобретет лишь тот, кто усердно служит стране, искореняет воров, пресекает раздоры и мятежи, стремится накормить голодных, водворяет спокойствие в губерниях. В том состоит счастье и честь деяний человека и служение Небу, ниспославшему маньчжурам великое государство.
Обдумывая грядущее противоборство с погрязшим в несправедливостях Китаем, Нурхаци с особой тщательностью совершенствовал армию - проводил структурные реформы, отрабатывал тактику боевых действий при проведении общеплеменных облавных охот, накапливал оружие и походное снаряжение. В стране была проведена перепись «всего собранного Сурэ-куньдулэнь-ханом великого народа». Тех, кого поставили «в строй», пересчитали, а далее из каждых 300 мужчин составили роту во главе с командиром и подчиненными ему четырьмя офицерами и четырьмя сельскими старшинами.
Это была общественная ячейка, образующая селение, в котором, следуя определенному распорядку, несли караульную службу, а также исполняли производственную работу и участвовали, в случае необходимости, в походах. Было отдано распоряжение о постройках крепостей, окруженных двойными стенами, с воротами, в которых несли службу «верные стражники». Восемь высших вельмож (амбаней) отвечали за охрану городов от нападений. Им строго предписывалось не требовать с жителей снаряжения для войск и облавных охот и не собирать «хлебную подать», чтобы они «не бедствовали». Для распашки же пустошей для производства хлеба выделялись из рот люди и скот. Зерно сдавалось в кладовые, учитывалось и выдавалось в качестве помощи. Исполняли эту работу, согласно правилам, 16 амбаней и 8 бакши. Начальственным лицам (в том числе из царского рода) предписывалось не притеснять простолюдинов, одиноких людей, а также слабых физически и умом. «Сильные люди» должны были руководствоваться в делах «хорошими законами», утвержденными Нурха-ци. Часто - законно ли то или не законно - решал сам, следуя «велению сердца», «по уму». В результате все люди в государстве, будь они хорошие или плохие, «жили спокойно, наслаждаясь миром и благоденствием».
Сложная пора становления государства, полная следующих одно за другим столкновений с соседями, в том числе с постоянно интригующей на севере Поднебесной, вынуждало Нур-хаци детально отслеживать состояние дел в армии, вовремя пополнять арсеналы оружием и постоянно поддерживать в должной готовности отряды. Для тренировок и поднятия духа воинов использовались облавные охоты. В хронику включены страницы с краткой информацией о том, как организовывались сражения и облавы, и что хан требовал, поучая для памяти в таких случаях. При подготовке к операции участники их должны были в ходе перемещений строго соблюдать тишину, чтобы никто ни о чем не мог догадаться, заслышав подозрительный шум, многократно усиленный горным эхо. Отряды, которые включали пять подразделений, рассредоточивались на местности в установленном заранее порядке, воины спешивались и занимали позиции, исключающие бегство тех, кто блокировался. Впереди размещались те, кто был защищен длинными массивными стегаными латами и вооружен копьями и широколезвийными мечами, позади – облаченные в легкие кольчатые латы стрелки из луков, а в укрытиях-засадах – храбрые конники, готовые вмешаться в сражение на тех участках, где возникала опасность поражения. Такая диспозиция и тактика ведения боя обеспечивали успех.
Нурхаци отличался пристрастием к обучению войск на облавных охотах и настойчиво призывал амбаней к совершенствованию правил охоты, приемов ведения боя, к следованию полезным запретам. Регламентация начиналась при первой же остановке на привал ночью в начале похода как на войну, так и на охоту. Стан отрядов огораживался тыном, обкапывался рвом и охранялся дозорными с луками и литаврами. Они обеспечивали безопасность и спокойствие отдыхающих. Внутри укрепленного лагеря паслись лошади, которые не могли выйти за пределы рва и забора. Не сбегали и люди, возымей они вдруг желание уклониться от похода. Следование осмотрительным правилам позволяло утром быстро свернуть лагерь и не мешкая отправиться в путь.
Нурхаци упорядочил проведение облавных охот, положив начало исполнению новых правил, которые давали возможность большему числу участников оказаться в центре загона и отличиться. Преследователи зверей стали объединяться в десять подразделений и каждый из участников получал охотничьи стрелы. Отныне не дозволялось покидать свои отряды и присоединяться к чужим, стремясь попасть в место, где с наибольшей вероятностью ожидалась удача. Такие попытки объявлялись преступными, и о том следовало сообщать, а в награду за это передавался убитый зверь. Недоносителя же наказывали палками. Если нарушителями правила были сами руководители загона, что приводило к неразберихе и путанице в коллективных действиях, то их предавали суду, отнимали коней и отдавали их ловцам животных.
При виде зверя не следовало скакать бестолково, во весь опор, и беспорядочно гнаться за ним, не давать возможности стрелять другим охотникам. У такого нарушителя правила добыча отнималась. При встрече со спящим тигром запрещалось сразу же будить его. Следовало сначала условными криками созвать других охотников, и если было удобное для преследования место, то велась неотступная погоня до тех пор, пока утомленного хищника не удавалось убить. Хан заповедал убивать медведей и крупных кабанов в одиночку, если опытный охотник мог это сделать сам. При участии же помощника добыча делилась поровну. Если в помощи отказывалось из-за жадности, то при неудаче с такого охотника взималась плата за упущенную возможность заполучить добычу. Если добивался зверь, раненый другими, то при честном донесении о том хану охотник имел право забрать все мясо себе.
К концу второго десятилетия XVII в. Нурхаци завершил формирование армии и принял решение приступить к практическому осуществлению давно задуманного плана – к масштабному вторжению в Китай. Это случилось в 1618 г. по окончании новогодних праздников, на 60-м году жизни «великого хана». Тогда он призвал своих бэйсов и вельмож «более не мешкать», «покончить с замыслами в уме» и произнес знаменитые слова: «Привести в исправность оружие! Откормить лошадей!»
Материал поступил в редколлегию 25.02 2010
Vitalij E. Larichev, Lyudmila V. Tyuryumina
THE IDEOLOGO-POLITICAL AND SACRAL IN THE MANCHUS SOCIETY OF THE BEGINNING OF THE QING EMPIRE FORMATION (ON THE MATERIALS OF ANNALISTIC CHRONICLE «MAN-WEN LAO-DAN»)