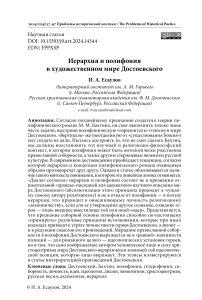Иерархия и полифония в художественном мире Достоевского
Автор: Есаулов И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Согласно позднейшему признанию создателя теории полифонического романа М. М. Бахтина, он смог выполнить только лишь часть задачи, выстроив полифоническую «горизонталь» голосов в мире Достоевского. «Вертикаль» же (неотделимую от «существования Божия») ему создать не дали. Пытаясь достроить то, что не смог сделать Бахтин, мы должны восстановить тот научный и религиозно-философский контекст, в котором полифония может быть онтологически родственна православной соборности, а также другим стержневым явлениям русской культуры. В современном достоеведении преобладает тенденция, согласно которой иерархия и концепция полифонического романа очевидным образом противоречат друг другу. Однако в статье обосновывается наличие такого контекста понимания, в котором эта линейная логика отменяется. «Диалог согласия» иерархии и полифонии состоит не в признании относительной «правды» последней для адекватного научного описания мира Достоевского (абсолютизация этого принципа приводит к чуждому самому автору релятивизму) и не в отказе от полифонии - в пользу иерархии, что приводит к овнешняющему личность религиозному «законничеству», если для ее утверждения другое сознание, сознание героя - лишь внешнее вместилище той или иной «идеи». Представляется, что признание соборной основы полифонии способно по-настоящему «примирить» различные принципы истолкования, которые при иных подходах приводят к утрате личностности героев Достоевского, а значит - и к редукции смыслов его произведений. Мерцание православной соборности в полифонии Достоевского выражается не в «равной» значимости позиций - для романного целого - идеологических установок героев, но в том, что само изображаемое автором человеческое лицо в силу христоцентризма мира Достоевского иерархически значимей той идеологической позиции, которую лицо выражает. Эти тезисы иллюстрируются в статье интерпретацией произведений Достоевского.
Достоевский, бахтин, полифония, гетерофония, соборность, личность, идея, идеология, диалог, монологизм, христоцентризм, русская песня, аксиология, иерархия
Короткий адрес: https://sciup.org/147245775
IDR: 147245775 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14344
Текст научной статьи Иерархия и полифония в художественном мире Достоевского
У ченые споры о соотношении иерархии и полифонии, сопровождающие публикацию первого издания книги М. М. Бахтина, по-видимому, никогда не закончатся. Было бы слишком самонадеянно полагать, что еще одна статья будет способна как-то примирить убежденных приверженцев (или эпигонов) бахтинского подхода и не менее решительных его критиков. Тем не менее я намереваюсь предложить свой вариант разрешения этого без малого уже векового спора, за которым в конечном итоге стоит столкновение представлений о доминировании горизонтали или вертикали в мире Достоевского. Начнем немного издалека.
На известной фреске Рафаэля «Афинская школа» в Станца делла Сеньятура Ватиканского дворца центральные фигуры фрески — Платон и Аристотель, — как принято считать, положением своих рук символизируют различные (или даже противоположные) философские установки. Первый указывает вверх на небо (Бога), второй — вниз (на землю). Разумеется, мы видим христианский живописный парафраз античного космоса (о сути которого — ниже). Если же формулировать положение античных философов на фреске точнее, то первый — сжатой рукой с указательным пальцем — обозначает вертикальное устремление вверх, на небо, а второй — разжатыми пальцами правой руки — горизонталь земли. Иными словами, автором фрески изображается непримиримая противоположность (спор) вертикали и горизонтали.
Этот контраст поддерживается и изображаемыми на фреске книгами: свой трактат «Тимей» Платон держит вертикально, а Аристотель «Никомахову этику» — горизонтально. Спор же неслышимых нами (но хорошо известных — по крайней мере, в европейской западной традиции) «голосов», говоря по-бахтински, Аристотеля и Платона — в авторской композиции фрески — разрешается тем, что вертикаль и горизонталь так соединяются в центре фрески, что они являются необходимыми частями Креста.
Проблема (а одновременно и введение в тему нашей статьи), однако же, в том, что эта авторская интенция, разумеется, сокрыта для самих изображаемых фигур (героев) «Афинской школы». Герои Рафаэля («диалогисты» его произведения) сами об этом еще не подозревают, они — в своем собственном кругозоре — самодостаточны, но в авторском замысле Рафаэля, христианина, их кругозор обогащается окружением , композицией, а потому и происходит кардинальное переосмысление сути «афинской школы»: в античном антиципируется христианское (что, в свою очередь, вполне соответствует как средневековой, так и ренессансной христианизации античности). Понятно, что на языке своего описания я намеренно попытался актуализировать бахтинское представление об авторе и герое — как они представлены в общетеоретических трудах ученого.
Эта аналогия с фреской может прояснить и соотношение иерархии героев и полифонии их голосов в художественном мире Достоевского. Не надо забывать, что и сам термин полифония — с появления известной статьи В. Л. Комаровича (см.: [Комарович, 1924]) — также лишь «образная аналогия», по Бахтину, «простая метафора» [Бахтин, 1972: 37]1. Мы сейчас не входим в обсуждение научного приоритета (и поисков европейских источников) в использовании термина2. Хорошо известно, что Бахтин принципиально переосмыслил как, по его убеждению, «сугубо» монологическое толкование полифонии Комаровича, так и саму его философскую опору — монологизм Б. Христиансена, книга которого «Философия искусства», вышедшая по-немецки в 1909 г., была уже в 1911 г. переведена Г. П. Федотовым на русский язык и оказала значительное воздействие на «монологическую» же систему русского формализма (и не только ее) (см.: [Богданова]).
По Бахтину, подчеркивающему отличие своего подхода от концепции Комаровича, «сущность полифонии именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в единстве более высшего порядка, чем в гомофонии. Если уже говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли. Можно было бы сказать так: художественная воля полифонии есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию» [Бахтин, 1972: 36].
Следует при этом учитывать и то, что сам создатель теории полифонического романа выполнил — как в первом издании своей книги, так и во втором, — только лишь часть задачи (что сам он трезво осознавал, судя по разговорам с С. Г. Бочаро-вым)3. Полагаю, что мы должны поверить адекватности передачи этих разговоров Бочаровым — хотя бы потому, что он-то сам в данном случае полемизирует с Бахтиным и находит некий позитивный смысл в этом бахтинском — подневоль-ном!4 — самоограничении.
Сразу после публикации этих разговоров я неоднократно пытался акцентировать внимание на подобных признаниях Бахтина (см., напр.: [Есаулов, 1995b; 1997]), в том числе на симпозиумах Международного общества Достоевского5, не говоря уже о своих книгах (см.: [Есаулов, 1995а: 131–134; 2004: 282–284; 2012: 107–108]); к сожалению, почти безуспешно6. Однако, судя по докладу К. Эмерсон на симпозиуме 2019 г. в Бостоне7, к этим признаниям начинают — спустя более четверти века — вдумчиво относиться и американские достоеведы, а также ведущие западные бахтинисты (я сейчас не обсуждаю степень корректности их интерпретаций).
В это же время, то есть с первой половины девяностых годов прошлого века, автор данной статьи старался показать, что бахтинская версия романной полифонии восходит к пониманию творчества Достоевского Вяч. Ивановым как творчества соборного [Иванов]. Здесь я не буду повторять своих прежних аргументов в пользу онтологического родства православной соборности и полифонии: в предыдущем абзаце имеются отсылки именно к этим работам8. Не стоит при этом забывать, что и применявший до Бахтина метафору полифония Комарович считал себя в научном отношении прямым продолжателем Вяч. Иванова.
В свою очередь Иванов, наряду с другими культурными деятелями нашего «серебряного века», находился в особой атмосфере религиозного ренессанса, да и сам был весьма активным его участником9, а потому то многоголосие , которое исследователи усматривали в художественном мире Достоевского, может иметь и совсем неочевидные истоки — в народной культуре (вспомним название второй книги Бахтина), а именно — в русской народной культуре (по крайней мере, в том ее изводе, как она осмысливалась деятелями этого религиозного возрождения)10. Более того, есть общая точка схождения — русской религиозной философии начала века, осмысления ею Достоевского и русской народной культуры, позволяющая нам — при некотором интеллектуальном усилии, подкрепленном аксиологической симпатией [Есаулов, 1994] к этим трем «источникам» наших размышлений — лучше понять диалогизирующий фон бахтинской полифонии, как и совершенно особую свободу «голосов» героев Достоевского.
Во всяком случае, аргументируя свое философское неприятие сциентистской рационалистической «системы» и обосновывая предпочтение им «синархии» (позже Бахтин отвергнет «диалектику» в пользу «диалога»), П. А. Флоренский для прояснения своей мысли привел «подобие» (то есть тоже, в некотором роде, метафорическое уподобление) синархии — русскую песню. Позволим себе в этой связи обширную цитату: «В музыке раскрыты доселе два многоголосных стиля: гомофония Нового времени, или гармонический стиль, с господством главного мелодического голоса над всеми остальными, и полифония Средних веков, или контрапунктический стиль, с взаимопод-чинением всех голосов друг другу. Но симфонисты пробиваются к третьему стилю, в существе своем предшествовавшему полифонии и своеобразно раскрывающемуся в многоголосии русской народной песни. Это, по терминологии Адлера, — гете-рофония, полная свобода всех голосов, "сочинение" их друг с другом, в противоположность подчинению. Тут нет раз навсегда закрепленных, неизмененных хоровых "партий". При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые варианты, как у запевалы, так и у певцов хора. Мало того, нередко хор, при повторениях, вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как там, — вразбивку; а то и вовсе не умолкает во время одного или нескольких запевов. Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый, более-менее, импровизирует, но тем не разлагает целого11, — напротив, связывает прочней, ибо общее дело вяжется каждым исполнителем, — многократно и многообразно. За хором сохраняется полная свобода переходить от унисона, частичного или общего, к осуществленному многоголосию» [Флоренский, 1999а: 37–38]; (выделено автором. — И. Е.).
Эта «полная свобода всех голосов», противоположная их «подчинению», которую усматривает Флоренский именно в русской песне, противоположная как монологизму («гомофонии»), так и «готической» полифонии (в истолковании Кома-ровича, критикуемой Бахтиным), антиципирует позднейшее бахтинское воззрение. Собеседников, а затем уже и комментаторов наследия ученого иногда удивлял своего рода парадокс: «Бахтин показал нам западную идею личности на творчестве Достоевского, а русскую идею соборности на творчестве Рабле» [Махлин, 1992: 186]12. Однако уже из приведенной выше обширной цитаты ясно, что и Флоренский русской полной свободе противопоставляет какое бы то ни было «подчинение» личности («тут нет навсегда закрепленных, неизменных хоровых "партий"»).
Далее у Флоренского это принципиальное противопоставление достигает концептуальной завершенности: «Так народная музыка охватывает неиссякаемый океан возникающих чувств, в противоположность застывшей и выкристаллизовавшейся готике стиля контрапунктического. Иначе, русская песня и есть осуществление того "хорового начала", на которое думали опереть русскую общественность славянофилы. Это — феократическая синархия, в противоположность юридизму Средневековья западного (стиль контрапунктический) и просвещенному абсолютизму Нового времени — будь то империализм или демократия, — что соответствует стилю гармоническому» [Флоренский, 1999а: 38].
Такого рода взаимное синархическое со-гласие голосов в русской песне вполне можно назвать соборным . Любопытно было бы проследить возможные параллели между пониманием природы русской песни Флоренским (в частности, обдумывая отношения запевалы и певцов хора) и представлением Вяч. Иванова о роли хора в греческой трагедии (в частности, осмысливая отношения голосов героя и хора)13; разумеется, имея в виду именно позднейшую бахтинскую концепцию полифонии (как и отношений между автором и героем), но это задача не одного, а многих исследований. Пока же подчеркну, что песенная метафора («подобие», по Флоренскому, того желаемого им соборного диалога , суть которого он попытался передать во втором предисловии книги «У водоразделов мысли») далеко не случайна. Бахтин различал полифонию как метафору и полифонический роман как термин, который имеет метафорическое происхождение. Теперь вслушаемся в «струй кипение»14 Флоренского, который, пытаясь вырваться из пут восторжествовавшего в европейской науке «системоверия» (и его также вполне уместно счесть недолжным «моноло-гизмом»15), обосновывает, как и в русской песне, « иное единство (выделено автором. — И. Е .), несравненно более связное, жизненно более глубокое, чем гладкий план <…>. Тут ни одна (тема. — И. Е .) не главенствует, ни в одной не должно искать родоначальницу. <…> Это — дружное общество, в котором каждый беседует с каждым…» [Флоренский, 1999а: 37].
Наконец, в том же самом предисловии (особенно же в до-цензурных его вариантах16) Флоренский чрезвычайно смело, предвосхищая известное хайдеггеровское уподобление своего философствования крестьянскому труду [Хайдеггер: 218–221], но только еще более дерзко17), заявляет: «В философии здесь автору хочется сказать то самое, что поет в песне душа русского народа (выделено мной. — И. Е .). Не систему соподчиненных философских понятий, записанных в Summa18, и не служебное, условно-прагматическое пользование многими, подчиненными одному, как практически поставленной цели, но свободное "сочинение" тем определяет сложение всей мысленной ткани» [Флоренский, 1999а: 38].
Однако здесь же заметим, что в определении Флоренского «феократическая синархия» уже явным образом присутствует иерархия (следует лишь иметь в виду, в отличие от без-благодатных политических или бюрократических иерархий, унифицирующих и обезличивающих людей, эта иерархия совсем иного порядка)19. Ныне практически не используемый термин синархия (греч. Συναρχία, то есть «соначало», «соуправление») употреблен Флоренским, по-видимому, с опорой на книгу В. А. Шмакова «Закон синархии» (1915 г.) и предполагает, помимо прочего, именно иерархию , которая еще и дополнительно акцентируется в данном случае прилагательным «феократическая».
Бахтин выстроил полифоническую «горизонталь», так очаровавшую научный мир в конце 60-х гг. прошлого века, но затем подвергшуюся ожесточенной критике. «Вертикаль» же (неотделимую от «существования Божия») ему создать не дали, в отличие от Рафаэля (точнее, Бахтин в своем самоограничении «себя за руку держал»). Необходимо помнить об этой горестной констатации автора — и, по необходимости, «достраивая» в своих научных построениях тот Крест, который адекватно авторской интенции передает космос Достоевского, не отвергать горизонтальную «полифонию» Бахтина, но дополнить ее (точнее, уравновесить, как это смог показать на своей фреске Рафаэль), в нашем филологическом случае, такими христоцентричными категориями, которые были бы способны продолжить эвристическую конструкцию русского ученого: умиление [Захаров: 179–198], соборность, пасхальность, благодать; учесть оппозицию юродства и шутовства в романах Достоевского и так далее. Эта терминология вполне адекватна не только художественному миру Достоевского, но и русской культуре как таковой, она позволяет уравновесить доминирующий в современном литературоведении etic-подход emiс-подходом [Есаулов, 2012: 23–26; 2021].
Пока же в мировом достоеведении, насколько можно судить, преобладает тенденция, согласно которой, по формулировке М. Джоунса — в его полемике с Н. Перлиной, «иерархия в пользу авторитарного Слова Евангелия» и концепция полифонического романа очевидным образом противоречат друг другу (см.: [Джоунс: 192–196]). Я в данном случае лишь констатировал очевидное.
В книге Перлиной [Perlina] неопровержимо доказывается присутствие сакральной (евангельской) иерархии в полифоническом мире Достоевского (особенно продуктивной представляется идея исследовательницы о природе «скрытых цитат» в «Братьях Карамазовых», восходящих к обобщенной идее святости, позволяющая избегать вознесения «интертекстуальной» буквы над духом/смыслом). Однако, отдавая должное ее замечательной работе, Джоунс весьма справедливо отмечает, что «господствующее интеллектуальное воззрение нашего времени, по меньшей мере западного, развитого общества» на творчество Достоевского таково, что если и можно говорить о иерархии голосов (как это делает Перлина), то, согласно этому интеллектуальному воззрению (от Камю до марксистов, экзистенциалистов, фрейдистов), «пророчества Достоевского» возводятся «не к голосам Зосимы или Алеши, но к голосу Ивана», не к идеологической «защите христианства» Достоевским, но к атеизму, «сделавшим заведомо смехотворным любое "возвращение религиозного"» [Джоунс: 195].
Исследователь пытается предложить компромиссное решение: «Правда, без сомнения, в том, что роман безусловно отвечает отчасти полифоническому, а отчасти иерархическому прочтению, но ни одному из них целиком во всем своем объеме» [Джоунс: 196]. Надо заметить, что «во всем своем объеме» всякое подлинно художественное произведение, разумеется, не сводимо к любой его интерпретации, сколько бы глубокой и тонкой она ни была. Но проницательность Джоунса состоит, на мой взгляд, еще и в том, что в исследовании Перлиной, известной сторонницы и даже своего рода апологетки основных теоретических положений Бахтина, он, похоже, почувствовал тот самый неприемлемый для последнего овнеш-няющий предмет исследования монологизм (который можно охарактеризовать как законнически-овнешняющую установку), согласно которой выражающаяся в системе цитат (в том числе скрытых) идея (пусть и та, которой горячо сочувствовал Достоевский-автор) все-таки иерархически выше личности, значительнее героя, значимее лица.
Диалог согласия иерархии и полифонии (если несколько вольно использовать бахтинский концепт) состоит не в признании их относительной истинности и не в признании «правды» иерархии — как опровержение «неправды» релятивной горизонтали — для адекватного научного описания художественного мира Достоевского, а в чем-то другом. В чем же именно?
Как я полагаю, в том, что иерархия (за которой слишком легко можно усмотреть «авторитарность» — увидал же ее М. Джоунс), которую большинство из нас, и я в том числе, вполне признаем в художественном мире Достоевского, может легко стать в наших научных описаниях этого мира овнешняющим религиозным «законничеством», идеологическим по своей сути.
В каком же случае это может произойти? Если для утверждения этой иерархии другое сознание, сознание героя, представляется нам только лишь внешним вместилищем той или иной «идеи». Если герои нам интересны только как «идеологи» — в «идеологическом» романном мире Достоевского, а сам их «диалог» — как диалог идей.
Вспомним, что в знаменитой книге Н. А. Бердяева «Миросозерцание Достоевского» в самом ее начале появляется доминантное слово, выделенное Бердяевым разрядкой, — идеи. Это слово суггестивно воздействует на читателя Бердяева: «Идеи игpaют oгpoмнyю, цeнтpaльнyю poль в твopчecтвe Дocтoeвcкo-гo. <…> Он художеством своим проникает в первоосновы жизни идей, и жизнь идей пронизывает его художество. Идeи живyт y нeгo opгaничecкoй жизнью; имeют cвoю нeoтвpaтимyю жизнeн-нyю cyдьбy. Эта жизнь идей — динамическая жизнь, в ней нет ничего статического, нет остановки и окостенения. И Достоевский исследует динамические процессы в жизни идей. <…> Жизнь идeй пpoтeкaeт в pacкaлeннoй, oгнeннoй aтмocфepе — охлажденных идей у Достоевского нет, и он ими не интересуется. <…> Идеи у Достоевского — не застывшие статические категории, — это — огненные токи. <…> Идeи oпpeдeляют cyдьбy» [Бердяев: 9]. Если столь важна именно «жизнь идей» (ср.: [Зелинский]), то, разумеется, неизбежно должна была развернуться полемика об иерархии идей у Достоевского. Если она, иерархия, конечно, имеется.
В начале двадцатых годов прошлого века появляется широко известная — хотя бы по бахтинскому изложению — работа Б. М. Энгельгардта, которая так и называется «Идеологический роман Достоевского» [Энгельгардт]. В ней утверждается, что идея ведет самостоятельную жизнь в сознании героев Достоевского, живут не они, живут идеи, романист дает не жизнеописания героев, а жизнеописание идей в них: «…идеи <…> приобретают ужасающую власть над личностью. <…> …основным моментом, которым определяются и по которому ориентируются индивидуальные особенности личности, является центральная идея, поразившая ее ум и воображение». Герой Достоевского — это «человек идеи». Констатируется «господство идеи-силы над сознанием <…>, идея деформирует и калечит <…> сознание <…>, совершенно опустошает его <…>. …идея не есть какая-то отвлеченная логическая схема. Она почти что живое существо, которое обитает в человеческом сознании, — существо по большей части властолюбивое и жестокое <…>, "сильные" идеи обрушиваются на людей и придавливают, уродуют их, словно огромные камни…». По мнению Энгельгардта, Достоевский «писал не романы с идеей, не философские романы во вкусе XVIII века, но романы об идее <…>, героиней была идея. <…> Эту-то жизнь идей, как подлинную реальность, и созерцал, то пугаясь и ненавидя, то умиляясь, гениальный писатель» [Энгельгардт: 85–86, 88–91]. Герой Достоевского, согласно такому прочтению, «оказывается в конце концов сполна подчиненным своей идеей» [Энгельгардт: 86]. Но, при всей значимости идей в романе, где же тогда, в конце концов, сам герой, человек? Или люди? В самом ли деле герой интересен этой владеющей им идеей или все-таки — также и сам по себе, как таковой?
Зададимся вопросом: разве речь идет только о ложных идеях? О тех идеях, которые заведомо чужды Достоевскому? Нет, речь идет о всяких, любых идеях. Однако если это так, то идея становится той самой «субботой», которая, при всей ее возможной «правильности», но вопреки духу Евангелия, не для человека, а выше человека. Поэтому я и позволил себе слово «законничество», прозрачно отсылающее к «твердому древнему закону», по словам Достоевского [Достоевский; т. 14: 232].
Значит, дело не в том, существует ли в мире Достоевского иерархия идей или полифония равноправных идей, высказываемых героями-«идеологами», а в чем-то другом. В чем же?
Представляется, что только признание соборной основы бахтинской полифонии (когда в неуничтожимом и незамести-мом «Ты еси» личности героев Достоевского всегда мерцает Другой Лик — милующий и любящий грешников, ибо «авторитарной» евангельская милующая любовь быть никоим образом не может) способно по-настоящему «примирить» те различные принципы истолкования, которые при иных подходах неизбежно приводят к тому или иному овнешнению героев, утрате их особой персонификации, на которой настаивал Бахтин, а значит — и редукции смыслов произведений Достоевского.
Ведь и при безусловной христоцентричности иконостаса в церкви, а также иерархичности различных его ярусов, лики святых существенно различны, иконостас многоцветен, потому что святые многоразлично, каждый по-своему выражают такие грани Божественного Промысла, который никоим образом не может вместиться в единичное человеческое сознание, в одну «идею» (или «идеологию»). Глубоко различны — в полифонии своих голосов — и герои Достоевского.
Разумеется, полифония не может быть вполне синонимична соборности: ведь, в отличие от собора святых, у Достоевского — полифония «голосов» грешников. Но весьма часто в научной литературе о Достоевском эта полифония понимается как своего рода противостояние в его художественном мире различных идей, идеологических установок героев-«идеоло-гов». Иными словами, как столкновение на самом-то деле не людей, а идей, либо того хуже — идеологий.
Тогда как мерцание православной соборности в полифонии Достоевского выражается не в «равной» значимости позиций — для романного целого — идеологических установок героев, положим, Смердякова и старца Зосимы (понятно, что такая постановка вопроса нелепа), но в том, что в обоих случаях само изображаемое автором человеческое лицо (за которым Лик Божий) иерархически значимей той идеологической позиции, которую, как полагают иные интерпретаторы, это лицо вполне выражает. Почему значимей? Потому что идеологическая установка неизбежно овнешняет это лицо — и именно в таком случае можно говорить о «порабо-щенности» человека идеей.
Та или иная «идеологическая» установка — я бы сказал, всякая отвлеченная «законническая» установка — может быть преодолена (и в мире Достоевского присутствует это преодоление), однако она преодолевается не противостоящими ей иными монологическими рассуждениями, замещаясь тем самым другой «идеологией», а — со-бытийным поступком .
Уместно вспомнить замечательную формулировку Флоренского, согласно которой и «православие показуется, но не доказуется» [Флоренский, 1990: 8] (когда выставляется одна идея против другой). Каким образом происходит подобное у Достоевского? Приведу несколько развернутых примеров с подробной аргументацией и детальной конкретизацией высказанных выше теоретических положений.
В свое время философ Л. П. Карсавин опубликовал статью с вызывающим заголовком — «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви», в которой доказывал, что этот — с внешней стороны — «грязный сладострастник», тем не менее в романном мире Достоевского проникает «в самое природу любви <…> видит то, чего не видят другие, улавливает индивидуально-неповторимое» [Карсавин: 264]. Но и для Карсавина, увы, Федор Павлович ценен именно как «идеолог», а не как незаместимая личность. Карсавин пытается сформулировать «идеологию любви», призывает «понять непреходящую правду карамазовщины» [Карсавин: 277], но не способен понять и простить самого грешника, Федора Павловича (избыток именно его личности, его человеческое «я», которое не вмещается в «карамазовщину»). И в этом случае та, загораживающая от философа личность героя «идея» (в данном случае — «карамазовщина»), так остро его интересующая, препятствует подлинному пониманию другого «Ты».
В «Преступлении и наказании» «за чтением вечной книги» [Достоевский; т. 6: 252] сошлись не только «убийца» и «блудница», как их определяет повествователь (таковыми они могут являться исключительно в «законническом» кругозоре, когда грешники полностью репрезентируют грехи), но Родя и Соня , у которых остается надежда на воскресение, пока они живы. Поэтому и последние слова Мармеладова обращены не к «блуднице», но к — лицу: «Соня! Дочь! Прости!» [Достоевский; т. 6: 145]. Понимание же персонажей как «убийцы» и «блудницы» — это как раз овнешнение, овеществление героев. Однако они — в авторском замысле — могут преодолеть в себе грехи убийства и блуда, вполне став Родей (Родионом Романовичем) и Соней. Но сделать это они могут в мире Достоевского не индивидуальным усилием, а в рамках соборного задания, увидав лицо (лик Божий) в другом , отделив как свой, так и чужой лик от греха (убийства/блуда).
Мармеладов в распивочной может восприниматься не только его слушателями, но и читателями в качестве шута («забавник»). Однако он на самом деле наследует православной юродивой, а не шутовской традиции, иными словами, той традиции, где плач над падением грешника уместнее смеха , апеллирует к сверхзаконному Божию прощению грешников — не для себя, но для всех («всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных»). Торжественная лексика, завершающая тираду («Господи, да приидет Царствие Твое!»), даже и на глумящуюся над оратором публику оказывает воздействие, хотя и очень кратковременное («Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание…» [Достоевский; т. 6: 21]).
Представляя собою словно бы предел падения человеческого, Мармеладов одновременно — в избытке авторского видения — самым радикальным образом проверяет на человечность других — и не только глумящихся над ним персонажей, но и читателя. Этот тест на человечность (христианскую любовь к грешнику) вполне соответствует как христианской традиции, так и семантике юродства.
Конечно, в мире Достоевского представлено, так сказать, юродство «неклассическое» (которое соседствует не только со святостью в своей «памяти жанра» традиции юродства, но и со грехом ), его олицетворяют грешные, «падшие», а также больные люди. Некоторые из них (такие, как Мармеладов) при этом словно надевают еще и шутовской колпак (и воспринимаются другими именно в качестве шутов ), как бы маскируя тем самым юродивую традицию.
Однако то радикальное провоцирование других (людей с омертвевшей душой), соседствующее с предельным самоуничижением, которое для юродивых является способом воскресения в этих других образа Божия, а поэтому — в конечном итоге — их духовного спасения, в высшей степени присуще ряду персонажей Достоевского.
Дух «системы», который по-разному пытались преодолеть в своих трудах как Бахтин, так и Флоренский20, побуждает в личности (единичность) видеть вещь (общее), то есть средство, а потому ее можно (и даже нужно) использовать21. Как мы знаем, мысленное конструирование того или иного типа «системы» является постоянным искушением не только для многих героев Достоевского (идея Ротшильда, дилемма Раскольникова и т. д.), но и для самого писателя: достаточно, напомнить, например, «систему», позволяющую, как надеялся Достоевский, обеспечить ему «рецепт» выигрыша в рулетку.
В «Кроткой» под «системой» понимается та рациональность, которая Закладчику представляется уместной при общении с его клиенткой, а затем — женой: «…я создал целую систему. <…> …я должен был создать эту систему <…>! Система была истинная. <…> Слушайте» [Достоевский; т. 24: 13]. Эта «системность» Закладчика как раз и должна была ему обеспечить чаемую победу в поединке с Кроткой, а значит — в его сражении с миром: «…поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами» [Достоевский; т. 24: 21]. В этом смысле Закладчик — реваншист. При помощи «системы» Закладчик должен реваншироваться — за свое поражение и, как ему представляется, глобальное унижение. Иными словами, «система» должна помочь перейти от карнавального «развенчания» к «увенчанию». В определенный момент, как герою представляется, «система» сработала: «…я победил! — и она была навеки побеждена!» [Достоевский; т. 24: 22].
Однако эта же «система» — даже и во время торжества Закладчика — овнешняет и сам предмет его любви (именно в момент искомого Реванша). Ведь фраза «я победил» (то есть преодолел прошлый страх) имеет неожиданное продолжение, которое свидетельствует о поражении «другого»: «…и она была навеки побеждена». Здесь самое странное (и несколько зловещее) слово — «навеки», несомненно придающее «победе» Закладчика несколько инфернальный — в духе цитируемого им ранее Мефистофеля — смысл. Победа «Я» (к тому же со столь необычными коннотациями) здесь куплена ценой поражения «Ты», при котором «Ты» из личности превращается в «вещь», лишается всякой личностной перспективы22. «Ты» здесь, собственно, не «Ты» (не «Ты еси», вспоминая еще раз как Вяч. Иванова, так и русскую православную традицию), а всецело отчуждающее «она». Отсюда и слово «навеки». Далее Закладчик как будто догадывается об этой обратной стороне «поражения» Кроткой: «"Она слишком потрясена и слишком побеждена" — думал я…» [Достоевский; т. 24: 23]; (выделено мной. — И. Е .). Герой по-своему любит Кроткую (отсюда фраза: «Разве не любил я ее даже тогда уже»? [Достоевский; т. 24: 12]), однако любит не в качестве равноправного ему самому «Ты», а как «вещь», любит как средство само -утверждения.
Однако сложность и многомерность героев Достоевского в этом рассказе состоит еще и в том, что и Кроткая тоже по-своему реваншистка.
В сущности, два раунда сражения Кроткой и Закладчика почти зеркальны. Ее «подноготная» ужасна: ее били, попрекали куском, намеревались продать. Поэтому Закладчик и подозревает, что «у ней могла быть даже такая мысль: "Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!"» [Достоевский; т. 24: 12]. Однако после своего «поражения» Кроткая побеждает Закладчика: «Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. <…> …целовал то место на полу, где стояла ее нога» [Достоевский; т. 24: 28]. Закладчик «повторял поминутно»: «…только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку…» [Достоевский; т. 24: 28]. Замечу, что до этого Закладчик утверждал: «…между нами <…> борьба, страшный поединок на жизнь и смерть» [Достоевский; т. 24: 21]. Рассказчик — своей «победой» над Кроткой — «отмстил всему <…> мрачному прошедшему» [Достоевский; т. 24: 24]. Но и Кроткая сначала своим «строгим удивлением» [Достоевский; т. 24: 34], а затем и самоубийством также отомстила. В Булонь, «купаться в море», где, по излишне оптимистическим, но светлым мечтам Закладчика, вполне, так сказать, «мениппейно» «начнется все новое» [Достоевский; т. 24: 28], когда, казалось бы, искомый катарсис вполне достижим, или «из окошка» [Достоевский; т. 24: 5]; (выделено мной. — И. Е.)? Конечно, «из окошка»!
Фабульно свое «поражение» (сначала тем, что закладывает образ, а после — что не может ни «наказать» Закладчика изменой, ни застрелить его) Кроткая трансформирует в несомненную собственную «победу» над ним, добровольно отказываясь от полноты любви, «возвращая билет», как ранее Закладчик отказался от выстрела: не захотела « всецело любить, а не так, как любила бы купца» [Достоевский; т. 24: 33]; (выделено мной. — И. Е .).
Однако, хотя текст и называется «Кроткая», но в фокусе авторского видения сознание именно «мужа», а не «жены», его, а не ее. Поэтому важна та последовательность мыслей Закладчика-мужа и последовательность частей, которую выстраивает Достоевский своим текстом. Для карнавала , как его представлял Бахтин, подобная последовательность не принципиальна в силу значимого отсутствия эсхатологического завершения (всенародное карнавальное тело — бессмертно). В «Кроткой» же совсем не так.
Фабульно «в поединке на жизнь и смерть» сначала побеждает Закладчик, а затем она. Точнее, фабула такова, что прекрасный человек обижен миром, становится — назло миру — Закладчиком, чтобы — отмстить «всему <…> мрачному, прошедшему» [Достоевский; т. 24: 24]. Затем он — в лице Кроткой — побеждает мир, она терпит поражение, а после уже побеждает она — хотя и ценой своей смерти, а он проигрывает («только пять минут опоздал») и мучительно осмысляет причины этого итогового несомненного поражения.
Но такая картина складывается исключительно в самосознании героя, в его собственном «кругозоре». В авторском же завершении героя наличествует иная перспектива. От цитаты из Фауста — к евангельскому тексту, от Мефистофеля , покупающего душу Фауста, к Христу , от духовной гибели — к воскресению («Люди, любите друг друга!» [Достоевский; т. 24: 35]), от выморочного шутовства — к юродству. Именно это движение и «возвышает» сознание Закладчика, что подчеркивается нарративным развертыванием текста, но вектор этого пути задан уже вводной частью «От автора».
Кроткая не только саму себя лишает жизни. Она еще и — вполне по-мефистофельски — этим самоубийством причиняет зло самому герою, наносит ему максимальный — и непоправимый — ущерб. В сущности, это самоубийство — в момент ожидания им счастья, в момент его отказа от своей «системы», от молчания, от овеществления Кроткой — это второй, но уже результативный, выстрел. Она не смогла сделать в свое время первый, но этот второй — состоявшийся — «выстрел», не только в себя, но и в него, куда более меткий. Ответить уже нельзя, никак нельзя (отсюда тоска мужа о «пяти минутах»: стрелявшая лишила себя жизни, так сказать «вернула билет» в Булонь, отказавшись навсегда от «нового»). Слово «навсегда», в гордыне своей мыслимое Закладчиком по отношению к своей прошлой «победе» над Кроткой, вполне уместно именно в этом случае. «Навсегда», потому что в земной жизни как-то «переиграть» эту окончательность «навсегда» мужу теперь-то решительно невозможно.
Кроткая причиняет предельное горе герою: убивает и его этим неожиданным решением более результативно и изощренно, чем убила бы — в состоянии аффекта — из револьвера во время его сна. Ее воистину убийственная «кроткость», да еще с иконой Богоматери в руках, — Кара для героя, а не просто его наказание: именно так и можно его наиболее жестоким образом покарать, то есть в итоге — окончательно («навсегда») — победить. Так происходит лишь на фабульном уровне, на уровне этических поступков героев.
Однако на более глубинном уровне понимания фантастический рассказ Достоевского представляет собой не сражение героя и героини, которое исчерпываются «победой» и/или «поражением» его или ее, не карнавальный круговорот «увенчания/развенчания», а авторское выстраивание весьма определенного вектора «вертикального» движения — от смерти к воскресению.
Закладчик уже был духовно мертв до встречи с Кроткой, ибо шутовской «бунт» подпольного человека овнешняет, то есть омертвляет его самого, а затем и Кроткую, находящуюся в отчаянном положении. Он попытался превратить ее в «объект», а тем самым умертвить духовно: осмысление отношений между ними сквозь призму «победы» и «поражения» свидетельствует именно об овнешнении героини. Неудачный бунт Кроткой и представляет собою попытку вырваться из этого овнешнения, в свою очередь «победить» Закладчика. Сами же категории «победы» и «поражения» — овнешняющие категории, поскольку базируются — в данном случае — исключительно на само -утверждении, превращении «другого» из «личности» в «вещь».
Однако героиня, «победив» в итоге Закладчика, не вынесла сама своей «победы», не была сама готова к подлинной — личностной — любви, где нет — ни для другого, ни для себя самого — «победы» или «поражения». Есть доля вины и самого Закладчика, которую он вполне осознает, признает и формулирует в финале: «Измучил я ее — вот что!» [Достоевский; т. 24: 35]. Однако в конце концов именно ее смерть становится — в избытке авторского видения, но не на фабульном уровне! — такого рода потрясением, которое и вызывает к жизни самого рассказчика. Она гибнет — не в своем собственном эгоистическом само-утверждении как героини, но в авторском эстетическом «задании», проявляющемся в выстроенности его художественного текста, — гибнет для того, чтобы воскрес мертвый душою герой, и именно здесь и возникает Крест. Героиня гибнет, чтобы он перестал быть Закладчиком, став страдающим мужем. Страдающим не из-за ущемленного собственного самолюбия, но из-за любви к жене, которая уже не «она», а «Ты». И он становится им. Так проявляется в этом произведении пасхальный архетип русской литературы. В итоге «она» из объекта само-утверждения Закладчика преображает ся не только в избытке авторского видения, но и в кругозоре героя в субъект — в «Ты». Именно это преображение «вещи» в «личность» и символизирует воскресение самого героя, именно оно-то, по словам автора, «неотразимо возвышает его ум и сердце» [Достоевский; т. 24: 5].
«Вертикаль» же в данном случае символизируется — на уровне построения текста — двумя крайними цитатами: вначале герой, будучи еще вполне Закладчиком, цитирует Мефистофеля, а в финале, став Мужем, и отнюдь не в плотской, но юродивой ипостаси, — слова Христа.
Если в «Кроткой» (как и в «Записках из подполья») разными вариантами, но эксплицирована авторская «объясняющая» установка, направляющая читательские рецепции, то в «Сне смешного человека» подобных установок нет. И без того ирреальное, не имеющее сколько-нибудь однозначных трактовок пространство «сна», отношения которого с повседневной реальностью крайне занимало Достоевского, релятивирует-ся еще и значимым отсутствием в данном случае авторских вводных слов или ремарок. С начала и до конца перед нами в чистом, не разбавленном авторскими «предупреждениями», дистиллированном, так сказать, виде Icherzählung . Это значит, что все без исключения сентенции, произносимые героем-рассказчиком, этим самым «смешным» человеком (от первой фразы: «Я смешной человек» — до последних слов: «И пойду! И пойду» [Достоевский; т. 25: 119]), — принадлежат отнюдь не автору «Дневника», не Достоевскому, излагающему таким вот образом, в такой «форме» свои религиозно-философские (и прочие) «идеи»23, но исключительно сознанию его героя .
Тотальное доминирование сознания героя-рассказчика (а не автора) в полной мере относится и к рисуемым им фантастическим картинам земного рая и грехопадения. Если мы в полной мере этого не учитываем, мы покидаем область собственно филологического рассмотрения и входим в какие-то иные сферы, которые можно назвать парафилософски-ми и квазибогословскими. Они, эти интерпретаторские переложения, могут быть весьма остроумными и неожиданными, но, к сожалению (к сожалению для филологии), скорее, уводят нас от постижения собственного смысла произведения Достоевского, чем углубляют это постижение.
Чем именно занимается не только этот, но и другие герои Достоевского, помимо осмысления ими собственной жизни? Им, как известно, «надобно мысль разрешить» [Достоевский; т. 14: 76]. Они, так сказать, решают мировые проблемы, ставят «проклятые вопросы», многие из которых, надо признать, решить окончательно, раз и навсегда, здесь, на земле, человеческим разумом невозможно… Чем же занимается тогда автор (если иметь в виду именно и только художественные произведения)? Автор, если вспомнить христианский подтекст бахтинских построений, так относится к своему герою, как Бог к человеку (в этом-то и состоит глубинный смысл «Ты еси»). Не покушаясь на его христианскую свободу, добавим мы, на его свободу выбора, но любя его как такового, как уникальную личность, как свое создание, сострадая ему и не сводя его к «отражению» каких-то общественных (или любых иных) «закономерностей» или «идей», то есть не «овнеш-няя» героя (если опять вспомнить один из наиболее существенных бахтинских терминов).
Знаменитое «равноправие» голосов героев и автора в романном мире Достоевского, на котором так настаивал Бахтин и которое не раз служило предметом аргументированной критики (см.: [Захаров: 81–89]), можно истолковать и в христианском контексте понимания . Автор и герой в самом деле «равноправны», но перед лицом той Божественной правды, которая во всей полноте и доступна-то только Богу и открывается, соответственно, соборному , а не единичному сознанию.
Что же происходит, когда вольно или невольно игнорируется чисто филологическая специфика? Так, Комарович, най-+дя «разительные совпадения» в фантастическом рассказе
Достоевского с «Déstinée sociale» В. Консидерана, пришел к выводу, что и стареющий Достоевский, несмотря на все его известные оговорки и резкое дистанцирование от его же юношеского «мечтательного бреда» социальных утопий [Комарович, 1997: 584], «не только сохранил в себе гуманиче-ский (так! — И. Е. ) идеал "земного рая", но и сознательно отождествлял его с своим юношеским идеалом из французских социальных утопий…» [Комарович, 1997: 610].
Можно как соглашаться, так и полемизировать с интерпретацией Комаровича. Однако главное, как мне представляется, состоит в том, что “Déstinée sociale” — это трактат , философское сочинение, где нет автора и героя, а есть только изложение позиции автора, а «Сон смешного человека» Достоевского — это художественное произведение, главное в котором — не «философия», не изложение социальных взглядов, не трактат (в котором «сон» персонажа был бы чисто «техническим способом» передачи авторских идей), а изображение героя (с его собственными, глубоко самостоятельными воззрениями и его собственной картиной мира, что отличает, как мы знаем, именно Достоевского).
Поэтому конечный вывод Комаровича нельзя назвать корректным. Все, что он — весьма справедливо — заметил и описал, Достоевский в своем парафразисе переводит в область этики и поступка героя, но не собственно автора. Тем самым авторские упования Консидерана объективируются, овнешняются, становятся предметом рассмотрения, парафрастической художественной игры, но зато герой, «смешной человек», напротив, выдвигается — самой структурой рассказа — на передний план изображения.
Героя спас вовсе не его фантастический сон, совсем не его сопротивление утопическим «законам счастья», которые «выше счастья» как такового [Достоевский; т. 25: 116], а девочка :
«И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка», « эта девочка спасла меня , потому что я вопросами отдалил выстрел» [Достоевский; т. 25: 107–108]; (выделено мной. — И. Е .).
Крайне важно, что она его «спасла», а он ее грубо оттолкнул, прогнал :
«…она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул» [Достоевский; т. 25: 106].
Нельзя не заметить некоторой особой, можно сказать, утрированной восторженности героя:
«О, теперь жизни и жизни! <…> …восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать …» [Достоевский; т. 25: 118]; (выделено мной. — И. Е .).
Здесь один тонкий, весьма сложный для интерпретации момент. «Люби других, как себя» — эта «старая истина» [Достоевский; т. 25: 119], как говорит смешной человек, то есть евангельская истина — бесспорно, она важна не только для «смешного человека», но и для самого Достоевского, будучи своего рода категорическим императивом любви. Однако восторженность героя , которая выражается в его утопических мечтательных упованиях («О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет» [Достоевский; т. 25: 118]), это сфера именно героя , приписывать их автору некорректно. Имею в виду, прежде всего, многократно цитируемое различными исследователями (и относимое ими непосредственно к авторской установке, установке самого Достоевского):
«А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! <…> Если только все захотят, то сейчас все устроится» [Достоевский; т. 25: 119]; (выделено автором. — И. Е .).
Если бы так и заканчивался текст Достоевского, тогда бы мы могли — хотя бы отчасти — согласиться с Комаровичем, с его процитированными выше выкладками. Однако текст завершается не безличными всеми («если только все захотят»), а той самой девочкой , которая очень подробно описывалась ранее: «А ту маленькую девочку я отыскал…» [Достоевский; т. 25: 119]. Сразу после этого следуют странные — крайне пафосные — слова героя: «И пойду! И пойду!». Куда же — пойду ? Пойду «проповедовать»? Но — кому? Всем? Зачем же тогда упоминание о девочке?
По-видимому, если и «проповедовать», то — в авторском эстетическом завершении героя, а не в его собственном кругозоре — не для утопической надежды — что «все устроится», а для спасения себя самого, спасения его души. Восторженный герой, «смешной человек», очевидно, в том же авторском ракурсе, не о «мире» прежде всего призван думать, а о том, как спасти свою собственную душу (которую он едва-едва не погубил). Во всяком случае, в финале еще нельзя говорить об окончательном спасении, поскольку он, как и многие другие герои Достоевского, человек пути , а не итогового завершения пути. Словами «пойду, пойду» закончился текст рассказа, но отнюдь не путь «смешного человека» (отсюда и формальная незавершенность, относимая к будущему, — «пойду, пойду»). Но так уж устроен мир Достоевского, ничего не поделаешь, что в этом мире доминирует представление о соборном спасении, а не только о личном. Однако это соборное спасение отнюдь не на пути безлично- коллективном (не там, где все — «если только все захотят»): «смешному человеку» — в авторском его завершении — нужно спасать не этих безличных их , а Ты — ту самую девочку, которая месяц назад спасла его (а тем самым спасти и себя самого). Поэтому после слов «ту маленькую девочку я отыскал» в тексте и стоит многоточие, также предполагающее незавершенность. В мире Достоевского эта девочка (Ты) нуждается — куда более абстрактных «всех» — в его заботе и спасении, ведь — еще до сна героя — на пустынной ночной улице «показался тоже какой-то прохожий», и девочка «бросилась» от героя к нему [Достоевский; т. 25: 106]. Можно предположить, каким может быть этот «прохожий» и что может быть далее с этой девочкой, которая так доверчиво бросается на пустынных ночных питерских улицах к незнакомцам — то к герою, то к «какому-то прохожему».
Исследователи же, будучи словно бы загипнотизированы сгущенностью философско-утопических размышлений героя, которые передает автор, хотя и задаются важными вопросами (например, отчего в этом идеально-утопическом мире сна «смешного человека» нет Христа, да и вообще Бога?), но незаметно для себя переходят из сферы собственно филологической в сферу религиозно-философскую, обсуждая «идеи» (и их генезис), а не изображенных людей. Итак, в персоналистическом мире Достоевского главное отнюдь не описание самого «сна» (и «райского» миропорядка), и даже не та «истина», которую герой «узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября» [Достоевский; т. 25: 105], не призыв к «проповеди» и не сама проповедь (в конце концов, проповедь монологична, а не диалогична, и уже потому не может быть «главной» для Достоевского). Главное — это «та девочка», которая помешала «смешному человеку» застрелиться. Удержали от самоубийства героя отнюдь не рациональные «философские» доводы его «я» («ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете. Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный» [Достоевский; т. 25: 107–108]), но жалость и стыд перед «Ты». Именно поэтому от «их», «истины» и «всех» в самом финале «смешной человек» переходит к «Ты». Это движение от «Я» (а также «философских» рассуждений о счастье, зле, добре и т. п., на которые обращалось преимущественно исследовательское внимание — в намерении непременно вычленить «философскую систему» или даже «богословие» писателя) к «Ты», созвучное в целом художественному миру Достоевского, как результирует путь рассказчика («И пойду! И пойду!»), так и в целом символизирует одну из главных особенностей поэтики писателя.
Овнешняющая личность идея , как и система , — та или иная — и есть порабощение грехом (именно в этом смысле Христос — как Абсолютная Личность — отделяется Достоевским от безличной «истины», которая всегда — в таком статусе — есть более или менее законническая ложь). Но соборное «общение неслиянных душ» (Бахтин) в романном мире Достоевского возможно не как «полифоническое» соотнесение их релятивных «идеологий», не как «столкновение идей», но как персонифицированный диалог незаместимых лиц, диалог людей, а не идей .
Поэтому соборная полифония, вопреки до сих пор распространенному заблуждению, не сражение «идеологов» (в сущности, столкновение идей, то есть концепций, различных «правд», «истин»), но в каком-то последнем пределе — встреча людей (хотя и в поэтической реальности); такая встреча, которая вовлекает в свой этический горизонт как автора, так и читателя. В этом ракурсе понимания ни автор, ни читатель не могут быть вертикально «выше» героев, ибо они — тоже люди, а не «репрезентанты» той или иной «идеологии». Во всяком случае, не только репрезентанты, не это в них главное.
Однако лицо , отражающее какую-то грань Лика, не является исключительным достоянием того или иного малого времени, его собственной «современности». Отсюда ясно, что такого рода встреча автора, героев и читателя, будучи со-бытийно со-пережита читателем, продолжает свое бытие (со-бытие) и в не завершимых просторах большого времени (где только и возможно во всей полноте то самое общение неслиянных душ , по Бахтину). Ровно так же и в целом личностный «диалог», представленный в книге Бахтина (невозможный без неловких жестов, той или иной интонации говорящего и спонтанной реакции слушающего и т. д.), отличается от деперсо-нифицированной, механистической «интертекстуальности», неизбежно — в своем пределе — завершающейся, по мысли Ж. Лакана, дивидизацией ( дивидизацией читателя) (см.: [Есаулов, 2006]).
Решусь в итоге на радикальное суждение. Любое лицо в мире Достоевского, сохраняющее хотя бы искаженный, но отблеск Божественного Лика, выше , то есть иерархически значимей, любой безличной « идеологии », поэтому спор «горизонтали» и «вертикали» следует поставить в верный (христианский) контекст понимания, в котором человек выше Cубботы, как Благодать выше Закона, законничества и идеи права. И только в таком — совершенно особом смысле, на мой взгляд, могут быть правильно соотнесены вертикаль и горизонталь у Достоевского, иерархия и полифония.
Список литературы Иерархия и полифония в художественном мире Достоевского
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худож. лит., 1972. 470 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 504 с.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства: в 2 т. М.: Искусство, 1994. Т. 2. С. 7–150.
- Богданова О. А. Эстетические идеи Б. Христиансена и российская наука о Достоевском в 1910–1920-е гг. (М. М. Бахтин, Б. М. Энгельгардт, В. Л. Комарович, Ю. А. Никольский) // Новый филологический вестник. 2014. № 4 (31). С. 21–33 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23147684&ysclid=m2vvwbu8uw819495539 (10.07.2024). EDN: TMOBJJ
- Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 70–89 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9204742&ysclid=m2vwebjdxr492937267 (10.07.2024). EDN: HTLCVJ
- Бочаров С. Г. Комментарии // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 431–543.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.] Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6: Мертвые души. [Ч.] 1. 924 с.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.] [М.]: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 8: Статьи. 816 с.
- Джоунс М. В. Достоевский после Бахтина: исследование фантастического реализма Достоевского. СПб.: Академический проект, 1998. 256 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
- Есаулов И. А. Литературоведческая аксиология: опыт обоснования понятия // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 378–383 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2435 (10.07.2024). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2435
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 288 с. (a)
- Есаулов И. А. Полифония и соборность (М. М. Бахтин и Вяч. Иванов) // The Seventh International Bakhtin Conference. Moscow, 1995. Book 1. С. 110–114. (b)
- Есаулов И. А. Полифония и соборность (М. М. Бахтин и Вяч. Иванов) // Бахтинский тезаурус: материалы и исследования: сб. ст. М.: Изд-во РГГУ, 1997. С. 133–137 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=phxxgv (10.07.2024). EDN: PHXXGV
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 349–362 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2526 (10.07.2024). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2526
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Есаулов И. Бахтинский «карнавал» и постмодернизм: дивидизация личности во французском литературоведении // Bachtin. Europa. Wiek dwudziesty. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. P. 107–112.
- Есаулов И. А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8. С. 606–660 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=3471 (10.07.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2008.3471
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Алетейя, 2012. 448 с.
- Есаулов И. А. Родное и вселенское в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: парафрастический контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 175–210 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582894223.pdf (10.07.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7322
- Есаулов И. А. Etic- и emic- подходы в изучении русской литературы // Венок памяти Сергею Кормилову (1951–2020): сб. воспоминаний. М.: Флинта, 2021. С. 389–395.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М.: Индрик, 2012. 264 с.
- Зелинский Ф. Из жизни идей: в 2 т. М.: Ладомир, 1995. Т. 1. 900 с.; Т. 2. 920 с.
- Иванов В. Борозды и Межи. М.: Мусагет, 1916. 351 с.
- Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб.: Сретенский монастырь, 2002. 288 с.
- Карсавин Л. П. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви // О Достоевском: творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М.: Книга, 1990. С. 264–277.
- Келдыш В. А. Достоевский в критике Д. Мережковского // Келдыш В. А. О «Серебряном веке» русской литературы: общие закономерности. Проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 467–479.
- Клюкина Л. А. Религиозно-философские идеи в рассказе Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека» // Studia Humanitatis Borealis / Северные гуманитарные исследования. 2021. № 1. С. 36–42 [Электронный ресурс]. URL: https://sthb.petrsu.ru/journal/article.php?id=3682 (10.07.2024). DOI: 10.15393/j12.art.2021.3682.
- Кожинов В. В. Бахтин и его читатели. Размышления и отчасти воспоминания // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 2–3. С. 120–134 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=wlqqmh (10.07.2024). EDN: WLQQMH
- Комарович В. Л. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» как художественное единство // Ф. М. Достоевский: статьи и материалы / под ред. А. С. Долинина. Л.; М.: Мысль, 1924. Сб. 2. С. 31–71.
- Комарович В. Л. «Мировая гармония» Достоевского // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала ХХ века. СПб.: Худож. лит., 1997. С. 583–611.
- Кюстин А. де. Россия в 1839 году: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. Т. 2. 480 с.
- Ма М. М. М. Бахтин как носитель русской традиции: Современное восприятие идей Бахтина в Китае // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2022. Т. 27. № 2. С. 359–370 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/31461/20922 (10.07.2024). DOI: 10.22363/2312-9220-2022-27-2-359-370
- Магомедова Д. М. Полифония // Бахтинский тезаурус: материалы и исследования: сб. ст. М.: Изд-во РГГУ, 1997. С. 164–174 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26146590&pff=1 (10.07.2024). EDN: WAEHWT
- Махлин В. Л. «Невидимый миру смех». Карнавальная анатомия нового средневековья // Бахтинский сборник. М., 1992. Вып. 2. С. 156–211.
- Махлин В. Л. Полифония // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001. Стлб. 756–759.
- Махлин В. Л. Достоевский в Достоевском. М. Бахтин и методологический поворот 1910–1920-х годов // Вопросы литературы. 2023. № 5. С. 83–104 [Электронный ресурс]. URL: https://www.voplit.com/jour/article/view/684 (10.07.2024). DOI: 10.31425/0042-8795-2023-5-83-104
- Махлин В. Л., Морсон Г. С. Переписка из двух миров // Бахтинский сборник. М., 1992. Вып. 2. С. 31–43.
- Морсон Г. С. Бахтин и наше настоящее // Бахтинский сборник. М., 1992. Вып. 2. С. 5–30.
- Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 47–157.
- Пеуранен Э. О. Полифония // Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 285.
- Попова И. Л. Полифония для стилистики романа: логистическая карта «транссемиотизации» // Вопросы литературы. 2023. № 5. С 105–127 [Электронный ресурс]. URL: https://www.voplit.com/jour/article/view/685 (10.07.2024). DOI: 10.31425/0042-8795-2023-5-105-127
- Пришвин М. М. Собр. соч.: в 8 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 8. 759 с.
- Свительский В. А. Полифонизм художественный // Достоевский: эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск: Металл, 1997. С. 107–109.
- Флоренский П. А. [Сочинения]. М.: Правда, 1990. Т. 1 (1): Столп и утверждение истины. 490 с. (Сер.: Прилож. К журн. «Вопросы философии».)
- Флоренский П. А., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3 (1): [У водоразделов мысли]. 621 с. (a)
- Флоренский П. А., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3 (2): [У водоразделов мысли]. 623 с. (b)
- Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. 464 с.
- Эмерсон К. Русское Православие и ранний Бахтин // Бахтинский сборник. М., 1992. Вып. 2. С. 44–69.
- Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский: статьи и материалы / под ред. А. С. Долинина. Л.; М.: Мысль, 1924. Сб. 2. С. 71–105.
- Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1984. 398 p.
- Esaulov I. New Categories for Philological Analysis and Dostoevsky Scholarship // The New Russian Dostoevsky: Readings for the Twenty-First Century. Bloomington: Slavica Publishers, 2010. P. 25–35 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45582514&pff=1 (10.07.2024). EDN: LAIXAS
- Holquist M. The Poetics Representation // Allegory and Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981. P. 161–183.
- Perlina N. Varieties of Poetic Utterance: Quotation in “The Brothers Karamazov”. Lanham; New York; London: University Press of America, 1985. 228 p.
- Pool B. From Phenomenology to Dialogue: Max Scheler’s Phenomenological Tradition and Mikhail Bakhtin’s Development from “Toward a Philosophy of the Act” to His Study of Dostoevsky // Bakhtin and Cultural Theory. Manchester: Manchester University Press, 2001. P. 109–135.
- Tihanov G. Bakhtin’s Discovery and Appropriations: in Russia and in the West // Проблемы исторической поэтики. 2024. Т. 22. № 1. C. 7–25 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1707979753.pdf (10.07.2024). DOI: 10.15393/j9.art.2024.13583. EDN: NGOCMN