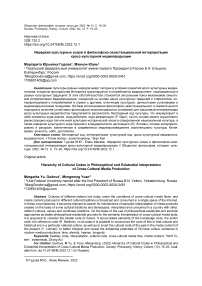Иерархия культурных кодов в философско-экзистенциальной интерпретации кросс-культурной медиапродукции
Автор: Гудова М.Ю., Юань Мэнмэн
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2022 года.
Бесплатный доступ
Культуры разных народов живут сегодня в условиях развития кросс-культурных медиапотоков, в едином пространстве Интернета транслируется и потребляется медиаконтент, произведенный в разных культурных традициях. В этих обстоятельствах становится актуальным поиск механизмов смысловой интерпретации медиапродукции, созданной на основе одних культурных традиций и стереотипов, интерпретируемой и потребляемой в стране с другими, отличными культурой, ценностными установками и мировоззренческими позициями. На базе использования философско-экзистенциального и семиотического подходов в качестве устойчивых философско-экзистенциальных оснований для смысловой интерпретации кросс-культурных медиатекстов предлагается рассмотреть бестиарный код культуры. Он аккумулирует в себе элементы кода-знания, кода-действия, кода-референции (Р. Барт), на его основе можно осуществить реконструкцию кода той или иной культурно-исторической эпохи в определенной национальной культуре, а также инверсию культурного кода прошлого в медиаконтенте настоящего (Ю. Лотман); полнее интерпретировать и раскрыть заключенные в современных медиапроизведениях экзистенциалы культуры Китая: время, вечность, небо, долголетие.
Бестиарный код, интерпретация, культурный код, кросс-культурный медиапоток, медиаконтент,
Короткий адрес: https://sciup.org/149142030
IDR: 149142030 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2022.12.1
Текст научной статьи Иерархия культурных кодов в философско-экзистенциальной интерпретации кросс-культурной медиапродукции
,
1,2Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia ,
Введение . В последние годы в глобальном культурном пространстве Интернета настойчиво развиваются кросс-культурные коммуникации и пересекаются медиапотоки, включающие произведения различных медиа, таких как кинематограф, игровые и анимационные сериалы, мультфильмы, книги комиксов и сказок, компьютерные игры и пр. Мощным фундаментом для создания больших потоков художественного медиаконтента являются национальные мифы, легенды и сказки, сохраненные и передаваемые в формах фольклорных, литературных и/или кинематографических произведений.
В процессе медиапроизводства исходные эпические и мифологические сюжеты, герои могут серьезно трансформироваться. При кросс-культурном восприятии разнородного по культурным корням и образам медиаконтента важными аспектами становятся различение образов национальных культур и наделение их тем содержанием и значением, которые соответствуют особенностям семиотической и аксиологической сферы исходной культуры. Такой процесс интерпретации образов и произведений с точки зрения семиотического подхода опирается прежде всего на дифференциацию и идентификацию культурных кодов, воплощаемых устойчивыми образами национальных культур.
Методология . По Ю.М. Лотману, культурный код - это своеобразный фильтр, соотносящий возможные и действительные сюжеты поведения представителей определенной культуры (Лотман, 1996: 172), то, что Р. Барт определит позже как акциональные коды, или коды действия. Однако, согласно Р. Барту, собственно культурные коды, или коды референции, - это «голос Знания». Они содержатся в массовых, народных текстах - учебниках, фольклоре, пословицах и поговорках, обыденном знании, идеологических стереотипах. Коды референции обеспечивают воспроизводимость национальных культурных стереотипов, и современная массовая медиакультура активно работает с кодами этого уровня (Барт, 2001: 152). Исследовательская мысль, в логике Р. Барта, должна двигаться от анализа «художественных жестов» / действий в поле культуры к анализу герменевтического фона, на котором они происходят, и в контексте тех культурных канонов и стереотипов, что уже сложились в культуре. В то же время, по Р. Барту, ни один из этих элементов не является однозначным и однородным, в них присутствуют ирония и другие компоненты сомнения, нужно уметь считывать и иронический код, и фальшь, и коды лжи.
Развивая идеи Р. Барта о референциальном коде, профессор Е.Л. Березович определяет культурный код как «понятие парадигматики языка культуры», представленное «не только определенными лексическими группировками, но и связанными с ними фольклорными текстами, верова-ниямии и пр.» (Березович, 2007: 15). Она подразделяет коды на субстанциональные и концептуальные. Субстанциональные «определяются на основании общности плана выражения - материальной, субстанциональной природы знаков, составляющих код; концептуальные выделяются на основании смысловой общности элементов, которые могут соотноситься с разными материальными воплощениями смысла (растительный код, зоологический, кулинарный и т. п.)» (Березович, 2007: 340). На наш взгляд, понимание культурных кодов в дихотомии субстанциональных и конвенциональных позволяет осуществить следующий исследовательский философский шаг и предположить, что субстанциональные коды «схватывают» онтологические устойчивые особенности бытия культуры. Будучи пережитыми в ценностном смыслопереживании, они порождают укорененные в жизни культуры экзистенциалы как ценности, чья значимость выявлена многократно в аффективном коллективном переживании носителей культуры. Конвенциональные коды помогают познать, какие материальные воплощения смысла характерны для определенной культуры, и то, какие именно образы (ботанические, зоологические и др.) были предпочтительны для передачи смысложизненных экзистенциальных ценностей культуры в народных эпосах и фольклоре, а сегодня перешли в создаваемый на основе этих культурных памятников медиаконтент.
Что позволяет нам говорить об экзистенциальном измерении медиапродуктов и о том, что основным предметом кодирования в произведениях массовой и популярной культуры являются экзистенциалы? Это прежде всего утверждение экзистенциальной сущности искусства, дающее право исследователю в любом произведении искать философско-экзистенциальные смыслы. Как пишет С.С. Ступин, «анализ экзистенциальных смыслов (точнее - экзистенциальных значений) в искусстве должен быть распространен не только на произведения художников-экзистенциалистов, непосредственно апеллирующих к этому философскому учению или испытавших его влияние, но на самые разнообразные художественные практики - объекты, в восприятии которых для зрителя оказывается особенно ощутимым и значимым его “экзистенциальный экстракт”, онтологическое наполнение которого связано с трансляцией или художественным моделированием определенных состояний человека» (2020: 15).
Это также философско-антропологические идеи А.С. Гагарина о том, что поиск образов трансчеловека и постчеловека осуществляется с середины ХХ в. в рамках массовой литературы и кинематографа, прежде всего в жанрах киберпанка и панк-фикшен, дающих образы различного рода киборгов, людей-демонов, киборгов-демонов-оборотней, люденов и метагомов (Гагарин, Новопашин, 2020: 13). А.С. Гагарин видит в фантастических образах люденов и метагомов поиски новой трансгуманной и/или постгуманной человечности и экзистенциальности (Гагарин, 2015: 71;
Гагарин, Новопашин, 2020: 13), а также поиски молодыми философами новых экзистенциалов в современном искусстве (Смирнова, 2019, 170), таких как шум, тишина, молчание.
Кроме того, это теоретические работы философов из Китая, России и Европы, осмысляющих опыт развития экзистенциальной философии в европейской и китайской традиции и сближающих понятия даосизма «время», «путь», «небо», «дао» и понятия, введенные в экзистенциальную философию М. Хайдеггером, такие как «вперед-себя-бытие», «нехоженая тропа», «здесь-бытие» (Торчинов, 2001: 101), продуктивно осуществляющих сравнительный анализ таких пар категорий, как «изначальное ( Ф ) - подлинное (Eigentlich)» (Цзин Лу, 2022: 12), «искренность ( ^ ) - открытость (Offenheit)» (Цзин Лу, 2022: 13), «спонтанная самоестественность ( Й^ , цзы жань) - здесь-бытие (Dasein)» (Цзин Лу, 2022: 13), «вещи-существа, “десять тысяч наличного” ( Л Ш^ ) - вещь (Ding)» (Цзин Лу, 2022: 15), «дао ( £ ) - бытие (Sein, Seyn)» (Цзин Лу, 2022: 15).
Исследование . Кросс-культурный медиаконтент включает сегодня фильмы, созданные как российскими, европейскими, так и китайскими и корейскими авторами. Если европейское кино главным образом берет за основу сюжеты греко-римской, кельтской или скандинавской мифологии, российское кино активно конструирует мифы древнерусской культуры, то фильмы и сериалы Кореи и Китая активно используют сюжеты эпосов Древнего Китая. К таким произведениям можно отнести китайские кинофильмы «Захват горы Тигра», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», более известную отечественному зрителю американскую картину «Дом летающих кинжалов» или корейские дорамы «История девятихвостого лиса» и «Игра в кальмара». Из всего многообразия кросс-культурного медиаконтента предметом нашего исследования выступают китайские кинофильмы «Тотем волка» и «Чжун Куй: Снежная дева и темный кристалл».
Кейс 1. Лента «Чжун Куй: Снежная дева и темный кристалл»1 основывается на одном из традиционных образов китайской культуры. Образ Чжун Куя в традиционной культуре - это божество со спиной тигра, талией медведя, головой леопарда, лбом дракона и рыбьими глазами. Это одно из воображаемых существ китайского бестиария, наделенное чертами могучих хищников: быстрых, сильных и кровожадных. Изначально Чжун Куй был повелителем злых сил. Однако в истории культуры смысл бестиарного существа изменился. Даосизм признает Чжун Куя как божество зверей, наделяет его функцией воина, изгоняющего призраков и зло, и делает его посланником благопожеланий мудреца городскому дому.
В эпоху династии Тан (618-908 гг. по китайскому календарю) люди начали вешать статуэтку Чжун Куя на двери, чтобы благословить городской дом, и танцевать танец Чжун Куя, чтобы молиться о благословении и мистической помощи, что продолжается и по сей день2. Традиция вешать статуэтку Чжун Куя сопровождает все новогодние праздники, данный ритуал позволяет прогнать мифических зверей нянь, которые беспокоят мир в канун Нового года, и отогнать злых духов. Для того же в этот период запускаются петарды и вешаются красные фонари. Во время Праздника Весны Чжун Куй является божеством, которое охраняет ворота, несет благопожела-ния, контролирует дом и управляет животными. На территориях проживания китайцев существует вера в Чжун Куя, во многих поселениях есть его святилища, где изготавливают его куклы-чучела, плитки с его изображением кладут на многие черепичные дома, танцуют соответствующие танцы и вывешивают флаги с его образом.
Экзистенциальный смысл почитания Чжун Куя в китайской культуре видится в том, что этот мифологический герой, охраняя людей и их жилища от злых сил в канун новогодних праздников, обеспечивает непрерывность времени, наступление все новых и новых времен и продолжение жизни для всех обитателей дома, семьи, рода. Непрерывность времени и личное долголетие являются, как известно, одними из самых важных экзистенциальных ценностей китайской культуры.
В указанном кинофильме Чжун Куй - это молодой человек, наделенный таинственными силами, способными усмирить и истребить демонов, он вынужден сражаться с духами Неба, Земли и Подземного царства ради спасения соотечественников и неприступной любимой женщины, которая является оборотнем снега. В кинофильме по всем канонам популярной культуры к традиционным представлениям об одиноком воине добавлена линия любви Чжун Куя и Снежной девы, героический воин побеждает все злые силы и приносит мир и счастье своей возлюбленной и соотечественникам. Чжун Куй как настоящий мифологический герой отвечает за экзистенциально значимые ценности: непрерывность хода времени, долголетие, продолжение жизни, защищенность дома и очага, тем самым воплощает национальные культурные коды знания о духах и демонах, код референции с мифами традиционной культуры, код действия в виде передачи благопожеланий дому и миру, защиты дома и домашнего очага и праздников от злых духов, бестиарный древний миф о сочетании черт наиболее грозных хищников – тигра, леопарда и медведя – и самых «мирных» и «праздничных» животных, покровительствующих дому и очагу, – рыбы и дракона, что выявляется в могуществе и славе воина.
Кейс 2 . Роман китайского писателя Цзян Жуна «Волчий тотем» (или «Тотем волка») был опубликован в Китае в 2004 г., затем переведен в 2007 г. и опубликован на русском языке, в 2008 г. – на английском, а впоследствии еще на 30 языках и быстро стал популярным во всем мире. Одноименная экранизация романа представлена в фильме французского режиссера Ж.-Ж. Анно «Тотем волка» (премьера в Пекине прошла 19 февраля 2015 г., затем в Париже, Москве и других киностолицах, картина была выдвинута на премию Оскар как лучший фильм 2015 г. на иностранном языке), лента рассказывает о жизни кочевников-скотоводов и отношениях между ними и волками на лугах Внутренней Монголии в 1960–1970-х гг. во время правления Мао Дзэдуна, когда студентов из Пекина отправляли работать пастухами со стадами овец и лошадей.
В основе романа и фильма лежат древние представления тюркских народов о волке как тотемном животном. В китайском регионе Внутренняя Монголия духовным покровителем для данного тотема является Великое Небо (по-монгольски – Тенгри), простирающееся над горными лугами, где кочевники пасли скот и куда степной народ переносил тела умерших соплеменников, чтобы волки съели их после смерти. Монголы верят, что только в результате совершения обряда возвращения предков в виде пищи тотемным волкам они смогут получить благословение Тенгри и после смерти вернуться в его объятия. Поэтому «царская фамилия первого тюркского ханства – Ашна – происходит из тюркской легенды о волчице Ашне, дочери гуннской принцессы и степного волка» (Ян Сюли, 2016).
При этом отношения между кочевниками и волками остаются сложными и во времена, показанные в фильме. Скотоводы-кочевники и «ненавидят волка – врага, который вторгается в их дома», и «почитают волка, живущего на лугах»1. Волк помогает монгольским скотоводам охотиться и «убивать травоядных, которых в степи не должно быть слишком много: диких овец, кроликов и степных крыс, больших и маленьких, и потому является исконным покровителем монгольского народа» (Ли Сяоцзян, 2013). Свирепость, жестокость, «ум и командный дух волка, его военная доблесть и организационное разделение труда когда-то были естественными инструкторами и двигателями эволюции монгольских армий, завоевавших Евразию в XIII в.» (Ли Сяоцзян, 2013), данные характеристики подлежат изучению и остаются примером для подражания у пастухов по сей день. В романе и одноименном фильме происходящее осмыслено с точки зрения Чэнь Чжэня, молодого человека, отправленного на луга Внутренней Монголии пасти скот, вырастившего молодого волка, побывавшего в его пасти, изучившего этих животных и победившего в смертельно опасном противостоянии.
Философское содержание романа и его экранизации «Тотем Волка» состоит в раскрытии экзистенциального смысла Луга и Неба как пространства большой и малой жизни, в котором не только проходит жизнь пастуха и волка, монголов и китайцев, оседлых и кочевых народов, но и наблюдается противостояние культур «овец» и «волков» (Турушева, 2014: 130). Также фильм Ж.-Ж. Анно пронизан философской идеей бесконечности времени и экзистенциальной ценности Вечности. Когда Чэнь Чжэнь пасет овец, он вспоминает одиночество и грусть деда Су Ву, занимавшегося тем же делом сто лет назад, и сетует, что на фоне древнего луга, который на протяжении десяти тысяч лет остается одним и тем же, человек кажется таким малым и ничтожным, «временным гостем степи» (Лу Юйтянь, 2021).
Волк и в романе, и в фильме, напротив, предстает божеством свободы у лугового народа, посланным Вечным Небом охранять луга, а также каналом, по которому души монголов возвращаются к Тенгри. В романе и картине показаны сцены обретения экзистенциальной ценности жизни под Вечным Небом и корней тотемного культа волка: во время жизни на лугу Чэнь Чжэнь впервые испытывает и навязчивый страх, благоговение перед монгольским степным волком, и очарование Вечным Небом и его законом.
Таким образом, ключевые экзистенциалы китайской культуры, воплощенные в этих произведениях, – это Небо (бытие) и Вечность (непрерывность течения времени); бестиарный код, в котором закодированы данные экзистенциалы, – сочетание тотемных кодов: степного волка – хищника и степного волка – покровителя, наставника и защитника. В свою очередь, это предопределяет такие коды национальной китайской культуры, как код знания о единстве и повторяемости истории, код референции с мифологическими представлениями о тотеме и тотемном звере, код действия – кочевничество, бесстрашие, «бег на длинные дистанции», умение выжидать.
Выводы. Проанализировав современные медиапроизведения, созданные на основе древних мотивов китайских эпосов, которые мы выбрали в соответствии с наличием в них специфи- ческого бестиарного кода китайской культуры, можно с уверенностью утверждать, что бестиар-ный код является ключом к пониманию связи между такими уровнями культурного кода национальной культуры, как код действия, код знания и код референции, и кодами субстанционального (онтологического) и конвенциального (выразительного) уровней, представленных, с одной стороны, важнейшими экзистенциалами культуры, а с другой – художественными образами, их воплощающими. Такая схема является относительно устойчивой и продуктивной при анализе медиаконтента, создаваемого в современном мире авторами, представляющими разные культуры.
В то же время мы выявили устойчивость основных экзистенциалов китайской культуры и многообразие способов их воплощения, когда один и тот же экзистенциал Вечности может быть выражен и бестиарным вымышленным существом Чжун Куем и тотемным зверем – степным волком, другом или хищником. И тот, и другой могут быть рассмотрены в качестве иконических знаков китайской культуры, поскольку остаются самотождественными, несут культурную информацию путем раскрытия своих природных особенностей и осуществляют взаимодействие с человеком именно как представители мира природы, единой для всех живых существ. В этом проявляются и экологизм современного китайского миропонимания, и трансгуманизм авторов этих произведений медиакультуры, не ставящих человека над миром природы, уравнивающих его со всеми другими живыми существами и стихиями, ведущих поиск нового совершенного человека не по пути наращивания возможных когнитивных и/или физических искусственных имплантов, а по пути воссоединения с природой и освоения универсальной природной мудрости.
Список литературы Иерархия культурных кодов в философско-экзистенциальной интерпретации кросс-культурной медиапродукции
- Барт Р. S/Z : пер. с фр. 2-е изд., испр. / под ред. Г.К. Косикова. М., 2001. 232 с.
- Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования. М., 2007. 599 с.
- Гагарин А.С. Экзистенция и экзистенциалы человеческого бытия в современной философской антропологии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-2 (62). С. 70-73.
- Гагарин А.С., Новопашин С.А. Экзистенциальные аспекты концепции постчеловека // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2020. № 2 (27). С. 9-14. https://doi.org/10.36809/2309-9380-2020-27-9-14.
- Ли Сяоцзян . Постутопическая критика: углубленная интерпретация «Тотема волка»
- Шанхай, 2013. 576 с. (На кит. яз.) Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М., 1996. 464 с.
- Лу Юйтянь = йМ'К. Исследование элементов и эмоций в «Тотеме волка» с точки зрения семиотической методологии // Музыкальное время и пространство = № 19. С. 70-72. (На кит. яз.)
- Смирнова Т.Н. О понятии экзистенциалов в философии человека и культуры // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Т. 8, № 4A. С. 166-170. https://doi.org/10.34670/AR.2019.45.4.076.
- Ступин С.С. Искусство и пределы человеческого. Опыт экзистенциального искусствознания. М.; СПб., 2020. 242 с.
- Торчинов Е.А. Беззаботное скитание в мире сокровенного: Хайдеггер и даосизм // Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур / под ред. М.Я. Корнеева, Е.А. Торчинова. СПб., 2001. С. 89-114.
- Турушева Н.В. Современная китайская литература как отражение социальных процессов в КНР // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 383. С. 126-132.
- Лу Цзин. Классическая философская и поэтическая мысль Китая и фундаментальная онтология М. Хайдеггера: сравнительный анализ // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2022. № 1. С. 11-17.
- Ян Сюли = Й^М. Размышления о матрице символов - применение теории матрицы символов в фильме «Тотем волка» // Оценка искусства = 2016. № 6. (На кит. яз.)