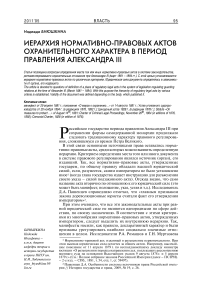Иерархия нормативно-правовых актов охранительного характера в период правления Александра III
Автор: Биюшкина Надежда Иосифовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам определения места тех или иных нормативно-правовых актов в системе законодательства, регламентировавшего охранительные отношения при Александре III (март 1881 - 1894 гг.). С этой целью устанавливается иерархия нормативно-правовых актов по различным критериям. Юридическая сила документа определялась в зависимости от органа, его издавшего.
Манифест от 29 апреля 1881 г., положение "о мерах к охранению…" от 14 августа 1881 г., устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. (в редакциях 1876, 1892 г.), цензурный устав 1828 г. (в редакции 1876 г.)
Короткий адрес: https://sciup.org/170165857
IDR: 170165857
Текст научной статьи Иерархия нормативно-правовых актов охранительного характера в период правления Александра III
Р оссийское государство периода правления Александра III при сохранении формы самодержавной монархии продолжало следовать традиционному характеру правового регулирования, сложившемуся со времен Петра Великого.
В этой связи основными источниками права оставались нормативно-правовые акты, среди которых можно выявить определенную иерархию. Критерием определения места того или иного документа в системе правового регулирования являлся источник (орган), его издавший. Так, все нормативно-правовые акты, утвержденные государем, по общему правилу обладали высшей юридической силой, если, разумеется, самим императором не было установлено иное1 (когда глава государства издает инструкцию для разъяснения своего указа – силой подзаконного акта). Отсюда видно, что само название акта вторично по отношению к его юридической силе (это может быть манифест, положение, указ, устав и т.д.). Исследователь Д.А. Пашенцев справедливо отмечал, что «главным признаком закона дореволюционные юристы считали факт его утверждения императором»2.
БИЮШКИНА Надежда
При этом очевидно, что все эти законодательные акты при равной юридической силе не являются однородными по сфере действия, по своему назначению. В соответствии с этими критериями из многообразия нормативно-правовых актов, утвержденных императором, следует выделить их внутреннюю иерархию. Так, манифесты носили, как правило, декларативный характер и были призваны урегулировать наиболее социально значимые отношения в целом. Исследователи Р.А. Ромашов и Г.Н. Муртазаева отмечают, что целесообразно выделять два вида манифестов: доктринальные манифесты и манифесты-преамбулы1. Доктринальный манифест определял наиболее значимые направления государственной политики в определенной сфере социальной жизнедеятельности. Манифесты-преамбулы не имели самостоятельного значения и использовались в качестве вводной части к соответствующему документу. Руководствуясь предложенной классификацией, мы можем отнести манифест «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдой Его Императорскому Величеству и Государству» от 29 апреля 1881 г. к категории доктринальных, поскольку он определял основы внутриполитического курса правительства Александра III. Далее следовали отраслевые законы, содержащие нормы, регулирующие ту или иную социально однородную, обособленную от других сферу общественных отношений. К их числу, например, относятся положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.2, регулирующее административно-охранительные отношения, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1866 г.3) – уголовно-правовые отношения, Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. (в редакциях 1876 г.4, 1892 г.5) – уголовно-процессуальные отношения, Цензурный устав 1828 г.6 (в редакции 1876 г.7) – цензурно-охранительные отношения. Отсюда видно, что и среди отраслевых законов присутствует внутренняя дифференциация: некоторые из них регулируют всю сферу общественных отношений полностью (Устав уголовного судопроизводства), другие же регламентируют отдельные группы, элементы одной сферы общественных отношений. К таковым, на наш взгляд, относятся положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.8, т.к. оно регламентирует только режим чрезвычайного положения, Устав о цензуре 1828 г.9 (в редакции 1876 г.10), который устанавливает правила контроля и надзора государства над всеми сферами культурной жизни общества. Очевидно, что эти законодательные источники регламентируют не всю сферу административно-охранительных отношений, а лишь отдельные ее компоненты. Таким образом, можно ставить вопрос о введении институционального критерия во внутриотраслевой классификации законодательных актов.
Следующим после государя органом, участвовавшим в законотворческом процессе дореволюционной России, был Государственный совет. Все акты, поступавшие на подпись государю, должны были первоначально пройти рассмотрение в нем. Д.А. Пашенцев полагает, что прохождение законопроекта через Государственный совет являлось вторым формальным признаком закона. В компетенцию этого государственного органа входили все вопросы, требующие нового закона, вопросы внутреннего управления, подлежащие отмене, ограничения, дополнения или пояснения к прежним узаконениям, общие внутриполитические меры в чрезвычайных обстоятельс-твах11. При этом Государственный совет играл важную роль в законотворческом процессе, которая состояла в подготовке законопроектов, общих распоряжений и мер к исполнению существующих зако- нов, подлежащих утверждению императором.
При этом следует отметить, что отличительной чертой правового регулирования административно-полицейских отношений данного периода является доминирование одного субъекта законотворческого процесса – Комитета министров, учрежденного для рассмотрения дел, «требовавших взаимодействия нескольких министерств»1. Ряд важнейших нормативно-правовых актов в этой области (например, положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.2, «Временные правила о печати» от 27 августа 1882 г.), минуя Государственный совет, рассматривались высшим административным государственным органом – Комитетом министров. В его компетенцию входил широчайший круг вопросов внутренней охранительной политики: установление штатов полиции в отдельных городах, учреждение временных генерал-губернаторств, введение и продление действия положения «О мерах к охранению…», карательная политика в области печати3. П.А. Зайончковский отмечал общее повышение роли Комитета министров при Александре III: не столь многочисленный по составу по сравнению с Государственным советом, он состоял лишь из министров, директоров департаментов и иных лиц этого уровня, что «обусловливало большее послушание этого учреждения по сравнению с громоздким по составу Государственным Советом»4. На фоне активизации деятельности Комитета министров другой законосовещательный орган – Совет министров – в период правления Александра III фактически не собирался, продолжая чис- литься в качестве законодательного органа империи5.
Значимую роль в системе законодательных источников Российского государства играют акты высшего органа административной юстиции – Правительствующего сената. Его роль в рассматриваемый период существенно не меняется: он по-прежнему остается органом надзора за административной властью, за соблюдением законности, высшей судебной инстанцией. Реализация надзорных функций выражается, в частности, в обязанности высших должностных лиц доводить до сведения Сената изданные ими распоряжения. Указы Сената, как пишет Д.А. Пашенцев, представляют собой «административные распоряжения», которые наделяются высшей юридической силой.
Мы, в свою очередь, предлагаем решить эту проблему, исходя из следующих критериев: юридическая необходимость утверждения государем-императором и статус государственного органа, издающего тот или иной нормативно-правовой акт, определяют его юридическую силу. В этой связи к подзаконным предлагаем отнести нормативно-правовые акты, не требующие высочайшего утверждения и изданные отдельными имперскими министерствами (например, МВД, его департаментами и отделениями). Эти нормативно-правовые акты мы можем отнести к категории подзаконных (циркуляры, инструкции), распространяющих свое действие на всю территорию Российской империи.
Далее – локальные подзаконные акты, основную массу которых составляют постановления местной административной власти (губернаторов, генерал-губернаторов, обер-полицмейстеров, начальников жандармских управлений и т.д.).
Предпринятая нами классификация нормативно-правовых актов, издаваемых в Российском государстве в XIX в., позволяет всесторонне, комплексно изучить источники законодательства, регулирующие административно-охранительные отношения, сложившиеся в Российской империи в период правления Александра III.