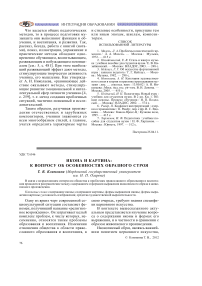Икона и картина: к вопросу об особенностях образного строя
Автор: Климкина Татьяна Викторовна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Образование и культура
Статья в выпуске: 1 (66), 2012 года.
Бесплатный доступ
В связи с возрастающим интересом общества к проблемам православного образования и воспитания проводится разграничение между содержанием и формами выражения иконописного образа и живописного произведения.
Содержание иконы, содержание картины, формы выражения иконы, формы выражения картины, условность изображения, средства художественной выразительности
Короткий адрес: https://sciup.org/147136831
IDR: 147136831 | УДК: 75.046
Текст научной статьи Икона и картина: к вопросу об особенностях образного строя
Одну из ярких черт современной социокультурной ситуации составляет феномен, получивший название «религиозное возрождение». Он затрагивает целый комплекс проблем, к числу которых, несомненно, относятся также проблемы образования и воспитания. Изменения отношения общества к области православного образования и воспитания, в свою очередь, требуют знания специфики церковного искусства.
В контексте вышесказанного актуальным представляется изучение вопроса о содержании иконы и формах его выражения, и в частности в сравнении с образом живописного произведения.
Иконописный образ, являясь важнейшим понятием церковного искусства,
существенно отличается от художественного образа светского искусства, образа картины. Эти отличия касаются как смыслового наполнения, так и средств художественной выразительности.
Существеннейшее смысловое различие между картиной и иконой заключается в том, что картина — это субъективное выражение личности художника, т. е. она индивидуалистична, а икона — изобразительно выраженная молитва. «...Молитва — обряд. Религиозный же обряд — надиндивидуален, сверхличен... Всякий обряд не только традиционен, каноничен, но и освящен Церковью» [4, с. 77]. Картина может быть как светского, так и религиозного содержания, икона всегда религиозна и церковна. Художественное произведение связано с именем автора, икона же безымянна. Иконописцы не подписывали свои работы, так как икона воспринималась «не как творение или собственность человека, а как действие благодати» [3, с. 7].
Различие между картиной и иконой просматривается и в различном понимании образа светской живописью и иконописью. Если в первом случае образ есть результат встречи зрителя с автором, т. е. некое «третье, которое возникает как творческий акт» [4, с. 77] между зрителем и художественным произведением автора, то во втором — это «образ, восходящий к Первообразу» [4, с. 77]. Понятие живописного образа находится внутри границ, созданных, с одной стороны, восприятием зрителя, а с другой — живописным произведением автора. Икона же «...не арена встречи двух субъектов: зрителя и автора, а лествица восхождения к Первообразному» [4, с. 78].
Специфика смыслового содержания иконы потребовала выработки художественного языка, тяготеющего к условности. В отличие от живописи, где есть понятие портрета, в иконописи это понятие отсутствует: лицо в иконе заменяется понятием лика. «Икона не портрет, а присутствие святого в его условно-символическом и в то же время реальном изображении» [2, с. 6].
Условность иконного изображения достигается благодаря специфической трактовке средств художественной выразительности: пространства, времени, цвета и света, что будет показано ниже.
Существеннейшее различие между живописным произведением и иконой заключается в способах передачи ими пространства. В живописном произведении оно, как правило, построено по принципу прямой перспективы, а в иконе передается средствами обратной или сферической перспективы. Прямая перспектива выражает субъективный взгляд на мир. В таком случае пространство относительно и характеризуется внешним, поверхностным, созерцанием вещей. Значение изображения в обратной перспективе состоит в его реалистичности и характеризуется мгновенным постижением вещей, свойственным Адаму до грехопадения. Таким «умным» видением, способностью проникать в истинную сущность вещей, по мнению святых отцов, обладал первозданный человек.
В картине наше внимание привлекают изображения первого плана. Обратная перспектива на иконе часто является «приемом подчеркивания»: за гранью предметов, изображенных в перспективе, скрывается значение образов, находящихся за гранью понимания.
С точки зрения временной характеристики в прямой перспективе, по законам которой построено пространство картины, точка схода линий означает конечность тварного мира. В обратной перспективе это есть образ Священной истории, направленной на ожидание апокалиптических событий, являющихся и близкими, превосходящими своей значительностью другие события, и далекими, последними во временной перспективе, наиболее удаленными от человека.
Различие картины и иконы заключается и в понимании категории времени. В картине движение существует в понимании времени как философской категории, сформировавшейся в Средние века в Западной Европе. В иконе кажущаяся неподвижность есть движение не во времени, а в Вечности. «В иконе фигуры неподвижны, они как бы застыли. Но это не холод смерти; здесь подчеркивается внутренняя жизнь, внутренняя динамика. Святые находятся в стремительном духовном полете, в вечном движении к Божеству, где нет места вычурным позам, суетливости и внешней экспрессии», — пишет архимандрит Рафаил (Карелин) [2, с. 8]. В картине время передается через изображение движения человеческого тела, а также изменение его внешности, обусловленное сменой настроения или процессами взросления, старения и т. д. В иконописном образе это происходит при помощи композиционных формул и символики цвета, соотносимой с символикой цвета православного богослужения.
Живописное произведение и икона различаются и отношением к цвету, «символу-цвету» [2, с. 21]. В картине цвет является средством колористического построения картины. Архимандрит Рафаил (Карелин) отмечает: «В картине цвет принадлежит предмету или событию. Он является средством выражения духовного состояния или объемной видимости предмета. В картине цвет — атрибутика объекта. Краски иконы имеют иное значение... они символичны» [2, с. 19].
Особое значение в иконе придается золоту, которое «своим блеском и таинственным мерцанием из плоскости как бы обращается в бесконечность» [3, с. 169]. Согласно Василию Великому, красота золота проста и единообразна, сродни красоте света [1, с. 46, 49].
Различие живописного произведения и иконы заключается и в отношении к свету. В живописи он является активным элементом формы и одновременно средством художественного воздействия на зрителя. В иконе свет и цвет неразрывно связаны между собой. Икона как бы пишется светом, поэтому процесс ее написания часто называют светописью. В картине чаще всего наблюдается присутствие внешнего источника освещения. Икона характеризуется отсутствием внешнего источника света. Свет в ней представлен через золотой фон, через светоносность ликов и фигур, через нимбы. В картине нередко можно видеть светотень. Ее значение Б. Р. Виппер определяет так: «Свет и тень прежде всего привлекают внимание живописца как средство конструировать форму и определить положение предмета в пространстве» [3, с. 173]. Икона не знает светотени, она изображает мир абсолютного света.
Таким образом, различие между живописным произведением и иконой характеризуется различием смыслового содержания картины и иконы, предопределяющим использование средств художественной выразительности художественного произведения и иконописного образа, таких как пространство, время, цвет и свет.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Аверинцев, С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры / С. С. Аверинцев // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. — Москва, 1973. — С. 43—51.
-
2. Архимандрит Рафаил (Карелин). О языке православной иконы / Архимандрит Рафаил. — Санкт-Петербург : Сатисъ, 1997. — 68 с.
-
3. Виннер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изобраз. искусство, 1985. — 288 с.
-
4. Тарабукин, Н. М. Смысл иконы / Н. М. Та-рабукин. — Москва : Изд-во Православного Братства Святителя Филарета Московского, 2001. — 224 с.
Поступила 15.12.11.