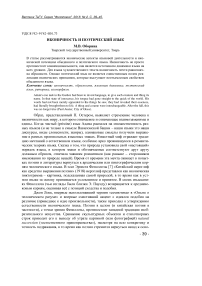Иконичность и поэтический язык
Автор: Оборина Марина Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются иконические аспекты языковой деятельности и ико-нической потенциал обыденного и поэтического языка. Иконичность не просто противостоит конвенциональности, она является источником динамики языка на всех уровнях. Для языка художественного текста иконичность почти равнозначна образности. Однако поэтический язык не является единственным полем реализации иконических принципов, которые выступают неотъемлемым свойством обыденного языка.
Иконичность, образность, языковая динамика, поэтическийязык, риторика, изоморфизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146281258
IDR: 146281258 | УДК: 81''42+91''42+801.73
Текст научной статьи Иконичность и поэтический язык
Adam's one task in the Garden had been to invent language, to give each creature and thing its name. In that state of innocence, his tongue had gone straight to the quick of the world. His words had not been merely appended to the things he saw, they had revealed their essences, had literally brought them to life. A thing and a name were interchangeable. After the fall, this was no longer true (Paul Auster, City of Glass).
Образ, представленный П. Остером, выявляет стремление человека к иконичности как миру, в котором означаемое и означающее взаимозаменимы и едины. Когда чистый (pristine) язык Адама распался на множественность разных языков (и не только в смысле Вавилонской башни – наши языки это наши дискурсы, виды словесности, жанры), одинаковые смыслы получили выражение в разных произвольных языковых знаках. Известный миф отражает традицию мечтаний о естественном языке, особенно ярко проявившуюся в романтических теориях языка. Сказка о том, что природа установила свой «настоящий» порядок языка, в котором знаки и обозначаемые соответствуют друг другу должным образом, отвечала чаяниям романтиков (как раньше – сторонников именования по природе вещей). Время от времени эта мечта оживает в попытках поэзии и литературы вернуться к архаическим или пиктографическим корням человеческого языка. В эссе Эрнеста Феноллозы [7] «Китайский иероглиф как средство выражения поэзии» (1918) иероглиф представлен как иконическая пиктограмма – картинка, подсказанная самой природой, в то время как в устном языке за основу принимается условленное и принятое. В своих изысканиях Феноллоза (чьи взгляды были близки Э. Паунду) возвращается к средневековым корням, оценивая всё с позиций сходства и подобия.
Джон Локк, впервые использовавший термин «семиотика» в «Опыте о человеческом разуме» и впервые сместивший акцент с идеалов подобия на различие (приведшее к идее произвольности), также приходил к утверждению естественности иконического знака. Поэзия в целом (и китайская поэзия в частности), с точки зрения Фенеллозы, противостоит западной традиции изобразительного искусства. Сравнение скульптурных объектов и стихотворных строк приводит его к выводу об утрате картиной (или фотографией) natural succession («естественного правопреемства»), несмотря на всю конкретику и точность подражания, в то время как поэзия стремится вернуться назад к осно- вополагающей реальности времени. Иконическая китайская поэзия сочетает в себе наглядность изображения и изменчивость звучания. Поэтические строки позволяют читателю не переключать регистры восприятия, а наблюдать за тем, как вещи обретают форму и рассказывают свою историю [12]. Поэтическая форма китайского иероглифа является и иконическим образом (визуальным, конкретным, пространственым, живым), и иконической диаграммой (звуки и идеограммы реализуют последовательность представления).
Несмотря на различия иероглифики и алфавитного письма, слово в поэтическом контексте своего употребления теряет конвенциальность значения, приобретая иконичность смысла. Роман Якобсон утверждал «нетождествен-ность “словарного” слова и слова в стихе» как признанную аксиому [8]. Доминантой поэтического слова Якобсон называет «поэтическую функцию языка», что позволяет называть «поэтическим» осмысленное отношение к слову как средоточию и источнику смысла. Поэтическая функция языка - его саморе-флексивность; поэтическое слово автонимно и самореферентно, и если всё-таки слово остаётся (не может не оставаться) знаком, то его «знаковость» состоит в том, что оно обозначает нечто и одновременно это же и учреждает в момент «обозначения». О. Мандельштам называл это орудийностью слова [4]. В.П. Литвинов [3], анализируя стихотворение Рильке Pieta , показывает, как слово творит смысл в стихе. Теоретики Пражского лингвистического кружка отказывались включать поэтический язык в систему функциональных стилей именно на основании его непрактичности и слабой референциальности: поэзия функционально замкнута на самоё себя, и поэтическое слово есть слово по поводу слова, а не по поводу жизни, и жизненный мир оно интерпретирует в преломлении через слова, которые значат больше, чем их обыденные корреляты в лексике (см.: [1)]. Если поэтический текст разобрать на слова, а к словам припомнить денотаты, поэтический смысл исчезнет. Таким образом, поэтическое слово не только не совпадает с лексическим, а вообще не имеет границ. Оно мыслится феноменально, «как некоторый момент текста, только в границах текста являющийся тем, что он есть» [3: 110].
Семиотическая комбинация, свойственная китайской культуре, сегодня привычна и для кинотекста, и для литературных течений имажизма и футуризма (с их попыткой соединения типографического пространства и движения), а также для монтажной поэзии (нелинеарные последовательности и сцены) у писателей-модернистов (Э. Паунд, Т. Элиот, Дж. Джойс). Именно модернистский подход к изображению мира в XX веке позволил найти новое средство литературного выражения, отражения новой реальности и новой глобальной культуры. Новые методы, средства, композиционные приёмы позволяли выйти за пределы рационального повествования, основанного на конвенциальности. Ассоциативная соположенность в текстах Джойса и Вирджинии Вульф создаётся с помощью иконических принципов, которые отражали сложное, изменившееся и неоднородное окружение, среду, которая больше не поддаётся простому линеарному представлению и не отражает временного порядка. Нелинеарные, пространственные вербальные образы и композиционные приёмы лучше приспособлены к изображению и выражению новой сложности жизни [5]. В прежние неспешные времена жизнь была нарративной, в городе же зрительные образы накладываются друг на друга с большой скоростью (они кине- 40 - матографичны), часто они выражаются в потоке существительных при отсутствии предикативных связок-отношений, это и есть идеографические представления (см. анализ стихов М. Цветаевой [6]).
Метод Джойса в «Улиссе» состоит во вневременном наложении разных пространств, симультанности разноплановых действий, замене нарративного метода композиции (в котором присутствует временная связь причины и следствия) методом потока сознания, сменой точек зрения. Пространственный образ протягивается во времени, диаграмматически иллюстрируя растяжённость смыслов.
In long lassoes from the Cock lake the water flowed full, covering green-goldenly lagoons of sand, rising, flowing. My ashplant will float away. I shall wait . No, they will pass on, passing chafing against the low rocks, swirling, passing. Better get this job over quick. Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, hrss, rsseeiss. Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, rocks . In cups of rocks it slops: flop, slop, slap ; bounded in barrels. And, spent, its speech ceases . It flows purling, widely flowing, floating foampool, flower unfurling (J. Joyce «Ulyssus»; подчёркивание наше – М.О.)..
В примере из второй главы «Улисса» внутренний монолог героя ико-нически (образная и диаграмматическая иконичность) отражает его восприятие шумов и движений окружающего мира (звукоподражание, словообразование, синтаксические структуры риторических вопросов, ритмизация. В то же время, общая структура текста всеми своими свойствами создаёт образ сознания и мироощущения человека, обращённого к собственному опыту и пропускающему окружающую действительность сквозь этот опыт.
Эволюция представлений о чистом языке (филогенез) от мистических начал естественного языка до возрождения иконической традиции в модернизме выводит в онтогенезе к обнаружению иконичности в языке детей. Известно, что дети гораздо чаще прибегают к звукоподражанию, чем взрослые, например, называя животных по произносимым ими звукам (ср. «Just so stories» Киплинга). Кроме того, исследования подтверждают, что дети с разными родными языками часто соотносят одни и те же звуки с одними и теми же свойствами обозначаемых объектов. Дети также склонны к спонтанной народной этимологии, меняя произвольно знаки таким образом, чтобы они отражали их представления о естественном именовании вещи. Взрослые менее склонны к такого рода ложной этимологизации, зная о произвольности знаков (большинство знаков являются символами в смысле Пирса). Но ложная этимология вновь проявляется, когда знак по каким-то причинам становится не вполне ясным (из-за редкого использования, как заимствованное слово или по другим причинам).
Кроме того, иконический характер детского мышления проявляется в отношении к буквам как картинкам, иконическим образам, когда ребёнок ещё не научился читать и писать (ср. традиционные образы букваря). Поэты склонны относиться к знакам таким же образом.
В связи с этими наблюдениями и тем, что онотогенез отчасти повторяет филогенез, многие лингвисты полагают, что язык имел иконографическое начало (что очень правдоподобно обыгрывает сказка Киплинга). Иконы более просты, чем символы, и именно к ним прибегают собеседники в отсутствии общего языка. В современных лингвистических представлениях, иконичсекие - 41 - знаки уже не играют такой большой роли. Послесоссюровская лингвистика установила произвольность знака. Историческая лингвистика неограмматиков в XIX веке также шла в этом направлении. Но и неограмматики вынужденно признавали существование исключений к звуковым законам. Их обозначили словом «аналогия» – тип мотивированного изменения на фоне иконического контекста. Получается, что в языке действуют и иконические законы, и законы произвольности. Возможно, что некоторые знаки, возникая как иконические, становились со временем символами – что верно не только для языка, но и для артефактов культуры. Язык является полем постоянного соперничества экономии (подрывающей развитие и распространение единиц и структур, делающей язык всё более конвенциональным и значит – более символичным) и потребности в экспрессивности для уравновешивания языковой эрозии. Язык это своего рода «упаковочная машина» (compacting machine) для выражений чувств. Эта красивая метафора принадлежит Р. Лангакеру (Ronald Langacker).
It would not be entirely inappropriate to regard languages ... as gigantic expressioncompacting machines. They require as input a continuous flow of creatively produced expressions formed by lexical innovation, by lexically and grammatically regular periphrasis, and by the figurative use of lexical and periphrastic locutions. The machine does whatever it can to wear down the expressions fed into it. It fades metaphors by standardizing them and using them over and over again. It attacks expressions of all kinds by phonetic erosion. It bleaches lexical items of most of their semantic contents and forces them into service as grammatical markers. It chips away at the boundaries between elements and crushes them together into smaller units. The machine has a voracious appetite. Only the assiduous efforts of speakers – who salvage what they can from its output and recycle it by using their creative energies to fashion a steady flow of new expressions to feed back in – keep the whole thing going (цит. по [11: xix-xx]).
Иконичность возвращается благодаря творческим усилиям говорящих. Она не только лежит в основании первичного именования и ранней формы языка, она возвращается каждый раз, когда речь идёт об образности (в поэзии, юморе, риторике) – когда говорящий стремится к выбору наиболее выразительной и наименее избитой формы. Поэтому иконичность так часто встречается, когда язык используется не автоматически и шаблонно, а сознательно (например, в литературе и в детской речи, в креализованных пиджинах).
Имитация в языковой деятельности сегодня отражает стремление к двум противоборствующим тенденциям текстопостроения – экономии и экспрессивности. В лингвистике это находит отражение в различении двух систем генерации языка: лингвистическое и паралингвистическое кодирование (экспрессивное изменение стандартных лингвистических правил). Синтаксические средства актуализации состоят в изменении стандартных правил – риторические инверсия, параллелизмы и иные синтаксические нарушения нормы. И.Фонажи называет вторичный код «искажателем» или «модификатором», который прикладывается и трансформирует все языковые единицы, генерированные грамматикой (первичный код), в живой речи. Оба типа кодов используют определённые правила (т.е. являются регулятивными), но при этом грамматические коды – символические, произвольные и конвенциональные, а вторичные – мотивированные или иконические [9]. Грамматические правила нормативны и имеют общее приложение, а правила «остатка» (т.е. подъязыков, не стандарта) являются идиосинкратическими и трудно выразимыми в общих терминах. Нестандарт – всё то, что остаётся за пределами обыденного, что вынуждает нас играть. Эти правила и сами играют с нормами языка, приводя в действие поэтические механизмы литературы (см., например, [2]).
Экспрессивная иконичность может рассматриваться: 1) с точки зрения влияния иконической мотивации на первичный языковой код (правила дискурса, правила словообразования) и превращения иконических моделей в конвенциональные; присутствие иконичности позволяет исследовать когнитивные структуры, связь структуры языка и структуры тела; 2) как часть вторичного кода: говорящие и пишущие подвергают первичный код вторичной мотивации или играют с ним, возвращают конкретную образность тому, что уже стало конвенциональным, используют форму как содержательную (добавляющую смысла) – особенно на примере языка художественных текстов, или иного использования языка в специальных целях (риторика, бизнес и т.п.). Игра слов и возвращение образности за счёт реализации иконического потенциала становятся источником смыслообразования.
Традиционно иконичность разделяют на образную иконичность (которая не играет большой роли в современном языке) и диаграмматическую иконичность (абстрактную иконичность), которая сохраняет свое присутствие в языке особенно на его высших уровнях. Конвенциональность, свойственная звукам, постепенно утрачивает своё влияние, когда речь идёт о всё более высоких уровнях языка: чем выше языковой уровень, тем выше степень мотивированности выбора. Как образная, так и диаграмматическая (структура, семантика, аналогия, грамматикализация) иконичность являются в художественных текстах механизмом порождения смысла. Если в образной иконичности существует прямое «один-на-один» конкретное отношение между обозначающим (обычно морфологически неструктурированным) и обозначаемым, то в диа-грамматической иконичности такого вертикального отношения между означающим и означаемым нет. Вместо этого существует связь между горизонтальными отношениями на уровне означающего и горизонтальными отношениями на уровне означаемого (например, в известной фразе veni, vidi, vici темпоральные отношения между событиями в реальном мире иконически отражены в способе, которым означающие именуют эти события как упорядоченные на языковом уровне). Аналогично семантическая иконичность (метафора, например) отражает семантические отношения между означающим и его означаемым, используя семантическое сходство между ними.
Семантическая иконичность – источник метафоризации в языке. Принцип аналогии, улавливаемый носителем языка, позволяет ему создавать всё новые формы, что работает даже на грамматическом уровне. Например, суффикс -ed в английском языке, который изначально использовался для образования форм прошедшего времени ранее сильных глаголов (burned вместо раннего barn), развился из-за усмотренной аналогии (изначально произвольной) между значением прошедшего времени и слабым суффиксом. Случается и обратное, когда сходство форм может привести к изменению значения.
Структурная мотивационная иконичность отличается от изоморфизма тем, что изоморфизм универсален, а мотивационность нет. Изоморфизм означает однозначное соотношение означающего и объекта / идеи означаемого. Из- за этого наличие в языке чистых синонимов или омонимов является лингвистической патологией. Синонимия может стать результатом одновременного существования в языке родного и заимствованного слова (в английском, в русском). Такая синонимия со временем меняется в сторону различения значений и употреблений (становясь источником поэтических значений). Омонимы в такой же ситуации часто замещаются другими словами или сменой произносительной нормы. На уровне синтаксиса изоморфизм поверхностных структур приводит к возможности выбора (что опровергает теорию восхождения ряда поверхностных структур к одной генерирующей глубинной структуре). Реализация выбора по закону универсальной субститутивности всегда приводит к изменению смысла.
Мотивационная иконичность менее абстрактна в сравнении с изоморфизмом и более заметна в языке литературы. Линеарная последовательность вербальных знаков может использоваться как иконическая диаграмма, обозначающая последовательность в пространстве и времени, непрерывность, изменение (рост и отмирание), продолженность, положение и движение. Синтаксическое соположение или положение на странице также могут функционировать как иконические диаграммы для выражения симметрии, гармонии, соотносительного положения, фрагментации и т.п. Почти все поэтические приемы от типографики, звуков, метра линеарности и до риторических фигур (например, хиазм), как и большое число нарративных приёмов можно рассматривать в терминах их иконической функции в предположении, что интерпретация всегда проходит от смысла к форме, а не иначе [5].
Насколько иконичность свойственна обыденному языку? Фигуры речи, изучаемые в поэтике, например, аллитерация, ритмизация, параллелизм, метр и регулятивные принципы их использования в тексте, основаны на языковой способности говорящего, т.е. универсальны. Даже метрические формы (которые Р. Якобсон когда-то относил к свойствам только поэтического языка) являются неотъемлемой характеристикой обыденного языка, что доказано в метрической фонологии (однако их роль в обыденном и поэтическом языке может быть разной). Супрасегментные исследования фонологии показывают, что язык в целом метрически организован. Исследования иконичности, посвящённые связи физических форм поведения и лингвистических форм, указывают на то, что физическая активность может ритуализоваться и затем стилизоваться и грамматикализоваться в языке. Этот процесс назвали «сублимацией» [10]. Иконические следы могут быть обнаружены в грамматикализованных формах до сих пор. Асимметрия и симметрия также могут изучаться в связи с физическим бытием человека: герой «Бойни номер пять» Курта Воннегута, обладая внутренним чувством симметрии, пытается преодолеть асимметрию жизни, например, времени, с помощью языковой инверсии, возвращая изначальную симметрию тела. На уровне языка это стремление выражается в использовании фигуры хиазма, а косвенно ещё и в фигурах парадокса, оксиморона, антитезы, иронии и двусмысленности.
Производитель иконичности – это всегда говорящий, выбирающий «подходящее» ему употребление. Выбор и принцип универсальной субститу-тивности делает поэтическое в языке частью языковой деятельности как таковой. Интенциональность как направленность текста на смыслы, присутствую- щие в рефлективной реальности реципиента, согласуется с общностью опыта действований с текстами, опыта чувственно-предметных представлений и опыта чистого мышления.
Список литературы Иконичность и поэтический язык
- Воробей И.А. О поэтическом слове//Герменевтика поэзии: коллективная монография. Армавир: РИЦ АГПУ. 2007. С. 17-48.
- Колосова П.А. Референциальная функция игры слов в художественном тексте//Вестник ТвГУ. Серия: «Филология». 2014. № 4. С. 121-127.
- Литвинов В.П. Феномен слова//Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2009. Т. 29. № 4. С. 101-119.
- Мандельштам О. О природе слова//О.Э. Мандельштам, Собрание сочинений в 4-х томах. М.: Терра. Т. 2. С. 253-254.
- Оборина М.В. Иконический потенциал синтаксиса в художественном тексте//Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2015. № 4. С. 145-151.
- Ревзина О. Г. Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М. Цветаевой//Ученые записки ТГУ. Вып. 481. Тарту: ТГУ, 1979. С. 89-106.
- Феноллоза Э. Китайский иероглиф как проводник поэзии//URL: http://www.gulliverus.ru/gvideon/?article=9055 (дата обращения: 28.03.2018).
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика//Структурализм «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193-230.
- Fonagy, I. Iconicity of expressive syntactic formations//Syntactic iconicity and linguistic freezes: the human dimension/Ed. by Landsberg M.E., Berlin; New-York: Mouton de Gruyer, 1995. Pp. 285-304.
- Haiman, J. The Iconicity of Grammar: Isomorphism and Motivation//Language. 1980. Vol. 56, № 2, Pp. 515-540.
- Nanny, M., Fischer, O. Introduction: Iconicity as a creative force in a language use. // Form miming meaning // Iconicity in language and literature 1 / Ed. by Nanny M. and Fischer O. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam - Philadelphia, 1999. Pp. xv-xxxvi.
- Williams, R. J. Modernist Scandals: Ezra Pound’s Translations of the Chinese Poem//Orient and Orientalisms in US-American Poetry and Poetics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. Pp. 145-165.