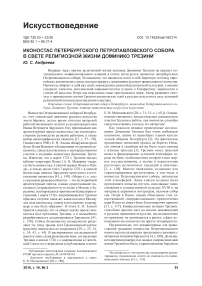Иконостас Петербургского Петропавловского собора в свете религиозной жизни Доминико Трезини
Бесплатный доступ
Впервые через призму религиозной жизни католика Доминико Трезини на предмет потенциального конфессионального влияния в статье исследуется иконостас петербургского Петропавловского собора. Установлено, что иконостас несет в себе барочную эстетику европейских католических стран, идущую вразрез с традициями русского православного зодчества. Иконостас вбирает в себя ряд идей, порожденных римской религиозной культурой, а именно содержит элементы католической сакраментологии (учения о Евхаристии), мариологии и учения об апостоле Петре как невидимом главе христианского мира. Автор развивает гипотезу о привнесении зодчим Трезини католических идей в русское искусство в силу активной религиозной позиции прославленного мастера.
Петропавловский собор в петербурге, иконостас петропавловского собора, доминико трезини, влияние католичества на русское искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/147151124
IDR: 147151124 | УДК: 726.03 | DOI: 10.14529/ssh160314
Текст научной статьи Иконостас Петербургского Петропавловского собора в свете религиозной жизни Доминико Трезини
Иконостас Петропавловского собора в Петербурге, этот уникальный памятник русского искусства эпохи барокко, долгое время считался авторской работой московского зодчего и скульптора-резчика Ивана Петровича Зарудного. Ему приписывали как архитектурный проект иконостаса, так и непосредственное руководство резными работами, а также выбор иконографических сюжетов [17, с. 57—58]. Однако еще в 1960 г. Е. Н. Элькин обнаружила среди бумаг Петра Великого и Канцелярии от строений документы, свидетельствующие о непосредственном участии в создании иконостаса Доминико Трезини. Известно, что в марте 1722 г. Трезини послал кабинет-секретарю Петра I А. В. Макарову «меру, где быть иконостасу в святой церкви Петра и Павла», и только после этого 7 апреля 1722 г. в личной беседе царь повелел Зарудному приступить к изготовлению иконостаса [41, с. 149]. «Мера» (т. е. лист с указанием размеров объекта) — это не подробный архитектурный чертеж, однако существование последнего, отправленного чуть позже в Москву к За-рудному, подтверждается протоколом Канцелярии от строений, 1 марта 1726 г. потребовавшей от Трезини прислать «чертеж таков же, каков послан в Москву для дела иконостаса, означа в нем имянно, в какову меру в нем быть образом»1. В итоге Е. Н. Элькин пришла к выводу, что «в общих чертах проект иконостаса был предложен Трезини, а в дальнейшем разрабатывался и детализировался Зарудным» [41, с. 150]. Сейчас большинство специалистов разделяют эту точку зрения, хотя Трезиниевский чертеж (рисунок) иконостаса не сохранился [29, с. 23; 34, с. 34; 43, с. 44]. В распоряжении исследователей имеется лишь схема размещения икон, составленная Трезини в начале 1726 г. и направленная в Святейший Синод на утверждение (опубликована в книге
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-04-00144.
К. В. Малиновского [28, с. 31; 35, л. 1 об.]). Однако, помимо «внешних», документальных доказательств участия Трезини в работе, сам иконостас способен свидетельствовать в пользу его авторства2.
Как показали недавно проведенные исследования, Доминико Трезини был очень набожным католиком, одним из виднейших членов католической общины Петербурга [2]. Он фактически организовал латинский приход на берегах Невы, его личная и семейная жизнь была тесно связана с жизнью прихода [3]. Трезини «внес немалый вклад в формирование духовной атмосферы города на Неве, особенностями которой стали мирное сосуществование, а подчас и переплетение различных религиозных традиций и обычаев» [2, с. 138]. Многие памятники, созданные или спроектированные архитектором, в том числе и иконостас Петропавловского собора, наполнены этой атмосферой. Лишь совсем недавно была предпринята попытка изучить инославные заимствования в художественной культуре XVIII в. на материале церковных интерьеров, включая собор свв. Петра и Павла, однако объяснение этих заимствований «неправославными» предпочтения царя Петра не может быть безоговорочно принято [31, с. 117]. Конфессиональная позиция Трезини, способная пролить свет на многие нововведения в русском церковном искусстве, исследователями по-прежнему не принимается в расчет, а факт исповедания им католичества просто игнорируется.
Неудивительно, что нехарактерные для православной традиции новшества Петропавловского иконостаса исследователи продолжают связывать с авторским почерком Зарудного [14, с. 638]. До недавнего времени развернутых данных о вероисповедной жизни Трезини не было, а происхождение Зарудного из Украины1, где наблюдалось влияние латинской культуры — богословской и художественной [4, с. 216; 8, с. 552], — объясняло отход создателей иконостаса от православных норм. Однако обратим внимание на тот факт, что Зарудный все же оставался православным2, а значит, выражал католическое влияние опосредствованно, через бытовавшие в Польше и Украине архитектурные и скульптурные формы. Трезини же, воспитанный в католичестве, остававшийся и в России воцерковленным католиком, выступал непосредственным носителем богослужебной и художественной культуры Римского Запада. Модернизация иконостаса, произведенная в Петропавловском соборе, может быть объяснена не только предпочтениями Зарудного, но и мировоззренческими установками Трезини.
Особенностью Петропавловского иконостаса является наличие большой арки в его центре, практически полностью открывающей взорам верующих пространство алтарной части. Открытый алтарь выступает ярким свидетельством римско-католического влияния в архитектонике собора. Устройство Царских врат здесь вступает в видимое противоречие с евхаристическим учением Православной Церкви, которая полагает, что единство св. Даров и Триединого Бога осуществляется не на природном (чувственном), а на ипостасном уровне, а значит, имеет характер Божественной тайны и происходит за гранью чувственного мира — в мире невидимом, который и отделяется алтарной преградой. В то же время открытый алтарь не просто согласуется с католическим мировоззрением, носителем которого выступал Доминико Трезини, а является его прямым следствием. Архитектор-католик, естественно, не мог понять, зачем необходимо скрывать алтарную часть. Католическое пресуществление (transsubstantiatio, т. е. буквально — «изменение по сущности») значительно отличается по смыслу от православного термина «преложение» [27, с. 247]. Transsubstantiatio, в отличие от преложения св. Даров, подразумевает претворение сущности хлеба и вина в сущность Тела и Крови, т. е. хотя и сверхприродную, но все же происходящую в естественных условиях, посюстороннюю трансформацию. Для католиков этот процесс имеет следствием изменения в природе хлеба и вина и может (даже должен) быть рационально понят, а значит, уже в определенной степени лишен тайны 3. Если для православных алтарь знаменует собой область Божественного Триипостасного бытия, где не должно присутствовать тварное, где только и могут мистически пре- лагаться св. Дары, то для католиков необходимость такого отдельного, «не-от-мирного», сакрального пространства в храме совсем не очевидна. В то же время православный храм его прямо подразумевает, т.к. «невидимое именно потому, что оно невидимо, само по себе недоступно взору чувственному, и алтарь, как ноумен, был бы несуществующим для незрячих духовно глаз (…) Ограничение алтаря необходимо, чтобы он не казался для нас как ничто» [37, с. 73].
Прообраз «раскрытого» алтаря Петропавловского собора ученые усматривают в иконостасе собора Преображения Господня в Ревеле, изготовленном За-рудным в 1717—1719 гг. [17, с. 57; 32, с. 53]. Ревельский собор представляет собой переосвященный цистерцианский храм XIV в., долгое время бывший к тому же лютеранской киркой. Это двухнефная церковь, поэтому в иконостасе нет центральных Царских врат, а состоит он из двух симметричных половин, каждая из которых имеет свои врата. В одной из них, а именно в Преображенском приделе, декоративные прорези во вратах (близкие по форме к прорезям Царских врат Петропавловского собора, что позволяет видеть в них творческую находку Зарудного) также частично открывают алтарь [30, с. 11]. Впечатление «открытости» усиливается еще и тем, что на вратах изображена ветхозаветная скиния, благодаря чему верующие имеют возможность символически узреть Святая святых [30, с. 11]. Тем не менее прорези этих врат легко драпируются тканью, — мастер в Ревеле всего лишь приоткрывает алтарь, ему еще далеко до той смелости, с какой это сделано в Петропавловском соборе. Неслучайно, сопоставляя оба иконостаса — ревельский и петербургский, ученые сомневаются, что последний мог быть создан Зарудным без постороннего участия: слишком неправдоподобно стремительно возросло мастерство московского зодчего [32, с. 51], равно как и масштаб его идей. «Раскрытие» алтаря в Петропавловском иконостасе должно было вызвать у верующих чувство личной причастности к миру Божественного; способствуя росту индивидуализма, оно определяет теологический аспект семантики иконостаса и его невозможно не заметить, в то время как «открытость» ревельского иконостаса не очевидна и устанавливается лишь при внимательном прочтении. Таким образом, стремление создателей иконостаса собора свв. Петра и Павла открыть взорам алтарь логично связывать с католическими убеждениями Трезини, а не с творческой эволюцией Зарудного. При этом схожесть архитектурных решений можно объяснить тем, что украинский и швейцарский зодчие пользовались образцами, так или иначе восходящими к одному источнику — католической культовой архитектуре, только Трезини делал это непосредственно, а Зарудный — через архитектуру Восточной Польши. У униатов Речи Посполитой открытые иконостасы стали нормой после поместного собора грекокатолической митрополии, созванного в 1720 г. в Замостье. В связи с русскими иконостасами петровской эпохи на данный факт впервые обратил внимание К. В. Постернак, который, однако, счел его всего лишь любопытным совпадением, полагая, что
«говорить о влиянии решений униатского собора на создателей иконостасов в России нельзя» [32, с. 53]. Конечно, Трезини вряд ли был в курсе решений За-мойского собора, но Зарудный наверняка был знаком с практикой изготовления открытых иконостасов еще у себя на родине, ведь вопрос о них не мог возникнуть на самом соборе, а появился ранее, в ходе внедрения в богослужебную жизнь греко-католиков целого ряда римско-католических элементов [38, с. 63—64, 297].
Еще одним вероятным предшественником Петропавловского иконостаса выступал иконостас Нарвского Преображенского собора — храма, содержавшего в себе много инославных (главным образом, протестантских) элементов [7, с. 186— 195]. Иконостас в Нарве предположительно был изготовлен в 1708 г. [31, с. 104], его стрельчатая арка над вратами так же открывает алтарное пространство, а сами Царские врата близки по форме и пропорциям к вратам Петропавловского собора [32, с. 54]. Существует гипотеза, согласно которой перестройкой Нарвской немецкой кирки св. Иоанна Иерусалимского в православный Спасопреображенский собор занимался Д. Трезини, разобравший часть восточной торцовой стены и пристроивший к центральному нефу алтарную апсиду [28, с. 14]. Есть также мнение, что иконостас этого собора Трезини и Зарудный проектировали вместе [24, с. 93]. Если это так, то два зодчих еще до создания иконостасов в Преображенском соборе Ревеля и Петропавловском соборе Петербурга имели опыт совместной работы, и в вопросе открытого алтаря могли обмениваться идеями.
Другим новшеством иконостаса свв. Петра и Павла стало обилие скульптурного декора. Ритмические ряды скульптур, в свою очередь, можно связать с художественной практикой, принятой в католических церквах. Богатая резьба сближает его с «флемскими» иконостасами, элементы которых (каннелированные колонки, имитация ткани и др. резные детали), безусловно, были привнесены За-рудным [14, с. 638]. Однако Петропавловский иконостас отличается обилием круглой антропоморфной скульптуры, несущей дополнительную эмоциональную нагрузку и мало свойственной «флемским» иконостасам. Неизвестно, какое участие принимал Трезини в проектировании скульптурного убранства иконостаса, но думается, что непосредственное, т. к. и в этом случае налицо привнесение в православный храм элементов инославной культуры. Так, традиционная для русских Царских врат1 тема Благовещения в скульптурной композиции Петропавловского собора фактически вытесняется изоморфной ей темой избранности Пресвятой Девы, выражающей идею Ее личного величия, столь свойственную католической мариологии [42, с. 65—72]. Известно, что почитание Девы Марии у католиков нередко превосходит почитание самого Христа [20, с. 24]. В свое время это вызывало негодование многих деятелей Реформации и породило с их стороны нападки на культ Богородицы (еще Ж. Кальвин писал, что напрасно католики «молят Деву Марию приказать Своему Сыну исполнить их просьбы» [22, с. 338]). В скульптурной композиции Царских врат собора центральным образом выступает Богоматерь, Ей предстоит (а не наоборот) находящийся среди апостолов Спаситель — тем самым подчеркивается Ее «изъятие из общего закона» [27, с. 225], возможность повелеть Своему Сыну (сравни с иным по своему духу молитвенным воззванием к Богородице православных: «Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная»). Содержание композиции Царских врат вполне укладывается в русло католической мариологии, построенной на догматах непорочного зачатия св. Анной Девы Марии и Ее телесного вознесения на небо, которые, хотя и были приняты только в XIX— XX вв., определяли сущность римской религиозной культуры еще со времен Тридента. Католическое учение о Богоматери в целом «уменьшает значение Ее послушания Божественному благовестию в день Благовещения» [27, с. 221], и именно это мы видим в Царских вратах Петропавловского собора. То, что образ Богородицы, несмотря на отсутствие сцены Благовещения, все же идейно связан с ней, свидетельствует ряд деталей.
Среди исследователей нет согласия по поводу того, какой именно христианский сюжет представлен на Царских вратах Петропавловского собора. К. Логачев пришел к выводу, что основу скульптурной композиции врат составляет сцена Тайной вечери [25, с. 99]. Однако, по справедливому замечанию Ю. В. Герасимовой, в иконографии Тайной вечери и Евхаристии «никогда не встречалось изображение Богородицы» [16, с. 126]. Эта исследовательница, в свою очередь, иконографически определила композицию как изображение Софии Премудрости Божией [16, с. 126—127]. Действительно, сходство между скульптурой Царских врат и иконографическим типом Софии Премудрости Божией Киевской есть — в обоих случаях Богородица доминирует в композиции и изображается в ротонде, символизирующей в православной иконописи храм. Однако этот храм (его изображали часто в виде сени) должен опираться на семь столпов, согласно тексту Священного Писания: «Премудрость созда себе храм и утверди столбов седмь» (Притчи, IX, 1). Эти столпы отождествляются с семью добродетелями. В композиции же Царских врат Петропавловского собора мы видим только четыре колонны, поддерживающие сень; кроме того, в ней отсутствуют характерные для иконографического извода Предвечный Младенец и ветхозаветные пророки. Таким образом, однозначно идентифицировать композицию как изображение Софии Премудрости Божией нельзя. Думается, что авторский замысел исключал стремление создать скульптуру Царских врат на какой-то отдельный сюжет или мотив, — она вобрала в себя и тему Евхаристии, и Софии Премудрости, и Virgo Sapien-tissima (мотив раскрытой книги), и Благовещения. На связь образа Богородицы с темой Благовещения указала все та же Ю. В. Герасимова, обратившая внимание на слова из Евангелия, вырезанные внут- ри мандорлы («Се, раба Господня»), свидетельствующие о том, что Пресвятая Дева представлена в момент возвещения Ей Божьей Воли о грядущем чудесном рождении Спасителя [16, с. 127]. Тема Благовещения акцентирована образом голубя, летящего в лучах света, символизирующего Св. Духа и олицетворяющего идею непорочного зачатия [9, с. 34]. Однако для полного тождества с Благовещением, изображаемым обычно на православных Царских вратах, не достает архангела Гавриила, непосредственно обращенного к Богородице, — скульптурные изображения архангелов Гавриила и Михаила по краям Царских врат композиционно не связаны с Богородицей и, по-видимому, несут самостоятельную идейную нагрузку, символизируя изгнание людей из земного рая и возможность искупления ими грехов благодаря пришествию в этот мир Христа и Его Искупительной Жертве. Таким образом, решение темы Благовещения в композиции Царских врат идет вразрез с русскими традициями и перекликается с идеей соискупительного служения Богоматери, не принятой в виде догмата, но весьма распространенной у католиков [27, с. 216].
Скульптурное убранство Петропавловского иконостаса, равно как и общее композиционное решение, определенно роднит его с ярусными барочными алтарями, повсеместно распространенными в католических странах. Пышные резные позолоченные алтари стали одним из орудий Контрреформации в борьбе с «еретиками» и особенно были характерны для Испании [12, с. 86, 98, 102—103], однако в более «спокойном» варианте они присутствуют и в Центральной Европе (например, алтари костела Девы Марии Снежной в Праге и костела св. Николая в Гданьске). Алтарные композиции в виде арочных конструкций, опирающихся на колонны, с богатым скульптурным декором и живописными сценами, весьма характерны для церквей Италии и Баварии, в меньшей степени для Швейцарии [12, с. 187, 231—233, 237—239], откуда происходил Трезини (впрочем, его родное село Астано лежит в швейцарско-итальянском пограничье). Мастер наверняка был хорошо знаком с различными типами католических алтарей, поскольку обучался строительному делу в Риме. Его осведомленность в области римского искусства выдает форма алтарной сени Петропавловского собора, перекликающаяся с киворием собора св. Петра работы Джан Лоренцо Бернини («Балдахином св. Петра») [43, с. 44]. В частности, помимо близких пропорций, их роднят витые («соломоновы») колонны, несущие в себе евхаристическую символику, актуальную в борьбе с протестантами. Такие колонны использовались при оформлении барочных католических алтарей и униатских иконостасов на огромной территории от Испании до Белоруссии (ср.: алтарь церкви Ла Каридад в Севилье, Сан-Эстебан в Саламанке, иконостас Софийского собора в Полоцке [11, с. 52, 111, 210]).
В той же экспрессивно-барочной «католической» манере были выполнены в 1719—1723 гг. четыре варианта проекта иконостаса для церкви Исаакия Далматского в Петербурге, автором которых выступил Николай-Фридрих Гербель — тоже католик и тоже швейцарец [10, с. 37; 34, с. 43]. В его проектных чертежах круглые скульптуры и ордерные элементы (пропорции колонн и принципы построения архитрава и фриза) напоминают те симметричные части Петропавловского иконостаса, которые находятся в боковых нефах. Кроме того, К. В. Постернак обнаружил сходство скульптурных изображений ангелов по сторонам Царских врат Петропавловского собора с изображениями на чертежах Гербеля [32, с. 52]. В обоих случаях (т. е. у Гербеля и Трезини) налицо следование не только единым принципам барочной эстетики, выражающим стремление архитектуры стать предельно декоративной и воздействовать средствами живописи [15, с. 72], но и реализация одного и того же «католического» мышления, трактующего иконостас скорее как картину, а не «твердь, отделяющую чувственное от духовного» [32, с. 6]. Важно, что Гербель тоже являлся воцер-ковленным католиком: наряду с Трезини он входил в петербургский католический приход и принимал деятельное участие в жизни единоверцев — по их просьбе выступал в роли крестного отца (например, 21 июля 1723 г. крестил сына Людовика Грима из Данцига [39, л. 19 об.]), а с 1720 г. вплоть до своей кончины (умер 16 сентября 1724 г.) возглавлял перестройку костела Греческой слободы в камне [1, л. 1; 6, с. 8]. Характерно, что в проектах иконостаса Гербеля для Исаакиевской церкви доминирует центральный образ, что соответствует традициям католических и протестантских алтарей, а в одном из вариантов иконостаса кроме центрального образа икон вообще нет — их функции принимают на себя скульптуры [32, с. 44]. Если исходить из того, что католик Гербель не до конца понимал молитвенное и литургическое назначение православного иконостаса, то нарушение им православных традиций в целом становится логичным и закономерным. Ту же логику мы обнаруживаем и в Петропавловском иконостасе.
Обратимся к чертежу размещения икон, составленному Трезини. Будучи католиком, он, очевидно, игнорировал принятые в православной традиции богословские трактовки иконостаса и отвергал линейно-горизонтальный принцип его построения. В буквальном смысле рядов икон, которые образуют классический русский иконостас, в сохранившейся схеме размещения мы не находим1. Впрочем, по сравнению с проектами других иностранцев, в частности того же Гербеля2, Трезини сохранил некоторое подобие местного и праздничного рядов. Продумывая схему расположения икон, тессинец, вероятно, все же отталкивался от православных русских образцов. Так, в местном ряду мы видим характерные для православного храма образы Спасителя и Богородицы, а также изображения святых апостолов Петра и Павла, в честь которых сооружен храм. Праздничные иконы условно выстраиваются в две линии: одна расположена над местными иконами и представлена сюжетами Благовещения, Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения (центральный образ), Рождеств а Христова и Сретения Господня;
вторая же находится под местным рядом и состоит из Введения во храм Пресвятой Богородицы (под Богородичной иконой) и Богоявления (под иконой Спасителя). Иконы этой же линии «Страдание Павлово» и «Страдание Петрово» (под образами свв. Павла и Петра соответственно) по смыслу выпадают из праздничного ряда. Праздничные сюжеты здесь не выстроены согласно хронологии церковного года или евангельской хронологии, в соответствии с которой обычно размещались иконы [36, с. 466— 467]. Более того, праздничные иконы в иконостасе Петропавловского собора прочитываются не по горизонтали, а по вертикали сверху вниз (справа от Царских врат — Рождество Христово, образ Спасителя, Богоявление; слева — Рождество Богородицы, образ Богородицы, Введение во храм).
В верхнем ярусе иконостаса расположены иконы, характерные для праотеческого ряда. В русском высоком иконостасе праотцы выступают как «наглядные примеры грядущего спасения в образах уже спасенных и прославленных представителей некогда падшего во Адаме грешного человечества» [19, с. 493]. Однако в Петропавловском иконостасе образы Деворы, Есфири, Моисея и Иисуса Навина, перекликаясь с образами земных правителей — Петра I и его супруги Екатерины Алексеевны, наделены политическим смыслом; они символизируют не христианское спасение, а данную от Бога власть («царя-архиерея», «благочестивую царицу»). Их задача — уверить зрителя в сакральном характере императорской власти, а не вселить сотериологический оптимизм.
Однако главное, что отличает разработанную для Петропавловского собора схему расположения икон от традиционных русских аналогов, — это отсутствие Деисуса (икон Спасителя с предстоящими Ему Богородицей и Иоанном Крестителем). Если вспомнить, что на Руси часто весь иконостас называли «деисусом», подчеркивая важность моления как действа [14, с. 622], то становится ясно, что на иконостас свв. Петра и Павла возлагалась иная функциональная нагрузка — он создавался не как побуждающий к молитве символ границы двух миров, а как элемент интерьера, прославляющий Бога, Его Пречистую Матерь, святых, а заодно с ними и Петра Великого с Екатериной I и их детьми, по отношению к которым многие иконы выступают как патрональные. Схема расположения икон была составлена в 1726 г., когда основные части иконостаса уже были изготовлены, а значит, он изначально проектировался в качестве архитектурного сооружения и его «иконное» наполнение было вторичным по отношению к архитектурным и скульптурным формам, подчинено им.
Иконостас воплощает сложный полифонический замысел, в котором можно выделить как минимум четыре семантических пласта — прообразователь-ный (ветхозаветные персонажи выступают прообразами Спасителя и Богородицы и консонируют с ними); патрональный, выражающий идею покровительства со стороны святых тезоименитым членам царской фамилии; триумфально-политический, прославляющий победы «Петрова царствования», а также сакрально-политический, имеющий целью сакрализацию власти Петра I и Екатерины I. Все они обстоятельно раскрыты замечательным русским ученым И. Л. Бусевой-Давыдовой, которая предположила, что составлением иконографической программы иконостаса занимался архиепископ Феофан Прокопович при личном участии Петра Великого [13, с. 160—166]. Действительно, ряд уподоблений и аналогий, к которым прибегал в своих литературных и проповеднических трудах Ф. Прокопович, подкрепляют эту точку зрения; особенно тесные связи с образом мысли новгородского преосвященного обнаруживаются в выборе икон русских святых, окружающих образ апостола Петра (исследовательница обращает внимание на ряд аналогий, к которым неоднократно прибегал знаменитый иерарх: Петр I как «живое зерцало» св. Александру Невскому, уподобление царей Иоанна и Петра Алексеевичей свв. Борису и Глебу, а Петра I — равноапостольному князю Владимиру и др.) [13, с. 163]. В области церковно-политической символики и риторики Трезини вряд ли мог сравниться с Прокоповичем — интеллектуалом-богословом, историком и поэтом, главным идеологом Петровского царствования. Тем не менее отрицать участие Трезини если не в подборе иконописных сюжетов, то по крайней мере в их размещении, тоже нельзя. План расположения икон был составлен все-таки Трезини и лишь затем прошел в Святейшем Синоде процедуру утверждения [28, с. 30]. Трезини непосредственно отвечал за интерьер собора, участвовал в работе комиссии, которая в дальнейшем принимала и оценивала уже написанные иконы [41, с. 153]. Кто решал, какие именно образы писать, — неизвестно, но Синод потребовал от Канцелярии от строений прислать «куншты» (эскизы?) икон, чтобы выбрать из них лучшие. Эти «куншты» было поручено представить директору синодальной типографии М. П. Аврамову1 — протокол Канцелярии от строений от 1 марта 1726 г. гласит по этому поводу: «к Михаилу Аврамову писать, дабы он какие надлежит образы писать, куншты предъявил Святейшему Синоду, и как опробованы будут, тогда лутчих объявил бы в Канцелярию от строеней»2 [35, л. 1 об.]. Очевидно, что проектные работы, касающиеся размещения икон, координировала Канцелярия, а духовное ведомство выступало контролирующей инстанцией. Возможно, план размещения икон предварительно, т.е. до создания чертежа, обсуждался Трезини с Прокоповичем или даже с самим царем. Известно, что преосвященный Феофан в дальнейшем непосредственно участвовал в создании внутреннего убранства собора. В 1732 г. Трезини писал: «Сего числа получил я от преосвященного Феофана архиепископа новогороцкого писмо, в котором изволит писать, дабы всеконечно к будущему освящению церкви святых апостол Петра и Павла написать образ святых верховных апостол Петра и Павла хорошим мастерством…»3 (речь шла о живописном полотне, не предназначавшемся для иконостаса, работа над которым затем была поручена А. Матвееву). Из процитированного письма следуют прямые контакты швейцарского архитектора с Прокоповичем, которые, впрочем, не исключают возможности привнесения со стороны Трезини, как проектировщика, своих идей в схему размещения икон.
Тщательный анализ схемы, предложенной Трезини, не выявил каких-то элементов, которые определялись бы позицией зодчего как католика. Очевидно, что мастер не стремился использовать свое служебное положение с миссионерскими целями и изначально не намеревался вкладывать в иконостас некий «католический» смысл. Безусловно, Трезини придавал большое значение своей вере и привносил в православный храм свое понимание сакрального пространства, однако он не имел того фанатизма, каким отличались многие его соратники по петербургскому костелу [4, с. 64, 122, 138—139]. Архитектор не просто проявлял терпимость к другим формам христианства, он уважительно относился и к протестантству, и к православию, причем никогда не осуждал религиозный выбор адептов этих конфессий [2, с. 136—137]. В 1728 г. Трезини размечал площадку под строительство лютеранской Петрикирхе на Невском проспекте [28, с. 53—54, 138], а в 1730 г. просил высочайшего разрешения построить в своем поместье, мызе Зарецкой Копорского уезда, православную церковь для своих крепостных, т.к. был обеспокоен тем, что «без церкви и без священника многие младенцы без крещения, а в возрасте без исповеди и святыя Евхаристии умирают»1. В переписке Трезини неизменно именовал православные церкви «святыми» и признавал их пользу [28, с. 156—157]. При таком «бережном» отношении к православной традиции и вообще к культурному наследию России Трезини мог без внутреннего конфликта и творческого надлома воплощать в иконостасе чужие идеи (например, Феофана Прокоповича) и следовать православной иконографии, а также уже имевшимся образцам иконостасов-панегириков. Таковым, например, был упоминавшийся иконостас Преображенской церкви Ревеля, восхвалявший победы Петра I и включавший иконы покровителей царской семьи [30, с. 12—14].
Исследование Петропавловского иконостаса дает основание утверждать, что его сложный замысел стал сплавом творческих интенций ряда людей — Трезини, Зарудного, Прокоповича, царя Петра, а также мастеров-резчиков и иконописцев. Какие-то идеи иконостаса связаны с предпочтениями Зарудного, какие-то удачно вписываются в мировоззренческие установки царя и его «птенца», преосвященного Феофана, а какие-то можно понять только в свете личных качеств Трезини. Например, данные о религиозности Трезини порождают новую интерпретацию темы ключей апостола Петра. Эта тема, неоднократно повторяемая в иконостасе со- бора, была рассмотрена М. О. Логуновой. Ею было отмечено, что ключи от рая и ада венчают Царские врата, имеются в руках Спасителя в центральной части иконостаса (композиция «Христос во славе»), присутствуют в руке апостола Петра, чье скульптурное изображение помещено на карнизе слева от врат, а также представлены на иконных образах первоверховного апостола [26, с. 158—163]. Исследовательница связывает символику ключей с политической ситуацией, с завоеванием Балтийского побережья, с ключевыми победами Петра, идеей преемственности между вечным городом и Петербургом, унаследовавшем славу третьего Рима, т.е. Москвы, хотя идеологическая формула гласила, что «Риму четвертому не бывать». Исследовательница предположила, что идея ключей, как и вообще вся программа иконостаса, принадлежала царю Петру и Прокоповичу [26, с. 163]. Однако апостольские ключи в европейском христианском искусстве всегда символизировали полноту папской власти, идейным и фанатичным противником которой был Прокопович [4, с. 261—263]. Преосвященный, прошедший курс наук в иезуитской коллегии св. Афанасия в Риме, не мог не знать эту сторону символики ключей и вряд ли стал бы сознательно повторять их мотив, утверждая идею римского господства. Прокопович слишком известен своей антиримской позицией, неприятием стремления римских пап «отъимати скипетры царския» [33, с. 79].
Скрещенные ключи, использованные при оформлении иконостаса, зримо выражают католическое учение об апостоле Петре как невидимом главе христианского мира — учение, оправдывавшее претензии пап, воспринимаемых в качестве апостольских преемников по римской кафедре, на безраздельную власть [23, с. 297]. Согласно данному учению, «апостол Петр, и только он один из апостолов, получил от Иисуса Христа ту чрезвычайную, единоличную власть над Церковью, которой, по праву преемства, обладают сейчас в Римско-католической Церкви папы» [27, с. 59]. Главным подтверждением тому католики считают слова Спасителя из Евангелия от Матфея: «И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам Церковь Мою (Petra), и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» [27, с. 60]. В Царских вратах Петропавловского собора начало этого текста использовано дважды. В книге, лежащей на аналое перед Христом, читаем: «Яко ты еси Петр и на сем камени созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ей». Эти же слова прочитываются в раскрытом Евангелии, находящемся в руках апостола Павла, чья скульптура помещена на антаблементе с южной стороны Царских врат [26, с. 165]. Появление темы ключей, по-видимому, необходимо связывать с религиозной позицией Трезини, воспитанного в духе учения о чрезвычайных полномочиях апостола Петра и его исключительном преемстве от Христа Искупителя. Данное предположение подкрепляется тем, что Трезини еще до работы над иконостасом, в первых Петровских воротах Петропавловской крепости (1708), не дошедших до наших дней, транслировал идею верховенства апостола Петра, формально трактуемого в качестве небесного покровителя русского царя [5, с. 94—96].
Древнерусские мастера, работая над образом апостола Петра, в отличие от западных живописцев и скульпторов (примеров множество — Ватиканская бронзовая скульптура «Святой Петр с ключами неба в руке» Арнольфо ди Камбио начала XIV в., апостолы Петр и Павел из алтаря Сан Дзено работы Андреа Мантенья конца XV в. и др.), не акцентировали внимание на теме ключей. Обычно изображался один маленький ключ, реже несколько (на древнейшей иконе из Новгородского Софийского собора XI в., к примеру, их три), однако композиционно ключ (или ключи) иконописцами не выделялись, т. к. не воспринимались в качестве важнейшего иконографического элемента. Примерами такого ненавязчивого «упоминания» ключей служат: апостол Петр из деисусного чина церкви Флора и Лавра деревни Астафьево XVI в. [21, с. 88]; икона из Спасопреображенского собора Спасского монастыря в Ярославле XVI в. [18, с. 225], икона свв. Петра и Павла из Покровской церкви Переславля-Залесского конца XV в. и др. В одном из распространенных на Руси иконографических типов (Белозерская икона свв. Петра и Павла конца XII или начала XIII в. из собрания ГРМ) у апостола Петра вообще нет ключей — только свиток, символизирующий апостольские писания (к этому типу, в частности, относится икона из деревни Пяль-ма Пудожского района, датируемая XV столетием и хранящаяся в Петрозаводском музее изобразительных искусств). Таким образом, усиленное звучание темы ключей в петербургском иконостасе более характерно для католической традиции, нежели для русской православной.
Гипотеза о Трезиниевском происхождении мотива апостольских ключей способна прояснить те обстоятельства, которые пока вызывают у специалистов недоумение. В частности, М.О. Логунова отмечает, что скульптурная композиция «Христос во славе», венчающая иконостас, «особенно странная»: композиция показывает чудо Преображения Господня, однако Христос в ней не соответствует каноническим изображениям — Он держит ключи, готовый передать их незримому апостолу Петру (по сторонам от Спасителя в скульптурной группе помещены не апостолы, а пророки Моисей и Илия) [26, с. 162]. На наш взгляд, эта уникальная композиция недвусмысленно выражает католическую идею главенства над христианами апостола Петра, однажды уже предложенную Трезини в Петровских воротах. Важнейшей догматической предпосылкой римско-католического учения о власти папы является то положение, что «преемствуемую папами власть апостол Петр получил от Христа» [27, с. 56], и в нашем иконостасе эта идея художественно проявлена. Кроме того, М.О. Логунова выражает удивление по поводу того, что в руках апостола Павла также находится Евангелие, раскрытое на словах, более подходящих апостолу Петру («Яко ты еси Петр…»), что, по ее мнению, «еще больше запутывает прочтение этого ряда скульптур иконостаса» [26, с. 165]. Однако это означает, что автор проекта всего лишь противопоставил протестантскому «паулинизму»
свой католический «петринизм»: апостол Павел почитается протестантами как идеальный учитель, ближе всего стоящий к догмату оправдания верой, поскольку он был убежден в особой значимости внутренней стороны христианства [9, с. 165]. Вольно или невольно автор композиции иконостаса отказал первоверховным апостолам в равенстве, подчинив образ св. Павла авторитету св. Петра.
Таким образом, Петропавловский иконостас несет в себе ряд идей, порожденных римской религиозной культурой. Они выражаются как в архитектурном решении иконостаса, так и в его скульптурном убранстве, проектированием которого занимался Доминико Трезини при участии иных лиц. Наличие специфических мариологических и сакраментологических идей подкрепляет гипотезу о привнесении иноземным архитектором в русское искусство элементов католической духовности, происходившем, безусловно, с ведома и согласия Петра I. Тем не менее иконостас демонстрирует отсутствие прямого конфликта с православием, органично вплетает в свою семантическую ткань и русские традиции, и европейские новшества. Терпимая позиция Трезини по отношению к православной вере и проявлявшееся им уважение к культуре России, исключали с его стороны не только прозелитизм или агрессивное внедрение католичества в русскую церковную жизнь, но и скрытое культуртрегерство. Трезини, проектируя и возводя православный собор свв. Петра и Павла, оформляя его интерьер, исходил из своего католического понимания сакрального пространства храма и использовал привычную «латинскую» символику, но ни в коем случае не отвергал духовный опыт и художественные принципы своих православных коллег.
Список литературы Иконостас Петербургского Петропавловского собора в свете религиозной жизни Доминико Трезини
- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 4.
- Андреев, А. Н. Доминико Трезини -староста римско-католического прихода в Санкт-Петербурге/А. Н. Андреев//Российская история. -2014. -№ 4. -С. 126-138.
- Андреев, А. Н. Католики Трезини в России/А. Н. Андреев//Гуманитарные научные исследования. -2014. -№ 3.
- Андреев, А. Н. Католицизм и общество в России XVIII в./А. Н. Андреев. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -393 с.
- Андреев, А. Н. Католическая составляющая в творчестве Доминико Трезини: к постановке проблемы/А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева//Вестник ЮУрГУ. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -Т. 13. -2013 -№ 1. -С. 94-99.
- Андреев, А. Н. К вопросу о строительстве и местоположении католического храма Греческой слободы в Петербурге/А. Н. Андреев//Вестник ЮУрГУ. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -Т. 15. -№ 2. -2015. -С. 6-16.
- Андреев, А. Н. «На иконе написан тут же и Мартин Лютер…» «Дело» об обнаружении в православном Спасопреображенском соборе г. Нарвы “иконы” Мартина Лютера. 1774 г./А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева//Исторический архив. -2014. -№ 4. -С. 186-195.
- Андреев, А. Н. «Хождение в святую землю» московского священника Иоанна Лукьянова как источник по истории восприятия католичества русским обществом начала XVIII века/А. Н. Андреев//Наука ЮУрГУ: материалы 67-й науч. конф. Секция социально-гуманитарных наук. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. -С. 550-555.
- Апостолос-Каппадона, Д. Словарь христианского искусства/Д. Апостолос-Каппадона. -Челябинск: Урал LTD, 2000. -266 с.
- Архитектурная графика России. Первая половина XVIII в. Собрание Эрмитажа: научный каталог. -Л.: Искусство, 1981. -176 с.
- Базен, Ж. Барокко и рококо/Жермен Базен. -М.: Слово/Slovo, 2001. -288 с.
- Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись/под ред. Рольфа Томана. -Кёльн: Könemann, 1998. -504 с.
- Бусева-Давыдова, И. Л. Иконостас Петропавловского собора в Петербурге: к истолкованию иконографической программы/И. Л. Бусева-Давыдова//Петр Великий -реформатор России. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования. -Вып. 13. -М., 2001. -С. 160-166.
- Бусева-Давыдова, И. Л. Русский иконостас XVII века: генезис типа и итоги эволюции/И. Л. Бусева-Давыдова//Иконостас. Происхождение -Развитие -Символика. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -С. 621-649.
- Вельфлин, Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии/Г. Вельфлин. -СПб.: Азбука-классика, 2004. -288 с.
- Герасимова, Ю. В. Византийские источники скульптурной композиции царских врат иконостаса Петропавловского собора в Ленинграде/Ю. В. Герасимова//Из истории Византии и византиноведения: межвуз. сб. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. -С. 124-137.
- Грабарь, И. Э. И. П. Зарудный и московская архитектура первой четверти XVIII в./И. Э. Грабарь//Русская архитектура первой половины XVIII века. Исследования и материалы. -М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1954. -С. 39-92.
- Даен, М. В. Новооткрытый памятник станковой живописи эпохи Ивана Грозного/М. В. Даен//Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV-XVI вв. -М.: Наука, 1970. -С. 207-225.
- Журавлева, И. А. Праотеческий ряд и завершение символической структуры русского высокого иконостаса/И. А. Журавлева//Иконостас. Происхождение -Развитие -Символика. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -С. 490-499.
- Иванцов-Платонов, А. М. О западных вероисповеданиях/А. М. Иванцов-Платонов. -М.: Тип. Снегиревых, 1888. -100 с.
- Иконы Русского Севера = Icons of Northern Russia: Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств/авт.-сост. О. Н. Вешнякова. -Т. 1. -М.: Северный паломник, 2007. -501, с.
- Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере/Жан Кальвин; пер. с фр. А.Д. Бакулова. -Т. 2. -Кн. 3. -М.: Изд-во РГГУ, 1998. -479 с.
- Конский, П. А. Папство/П. А. Конский, А. Г. Готлиб//Христианство: энциклопедический словарь. -Т. 2. -М.: Большая российская энциклопедия, 1995. -С. 264-304.
- Коченовский, О. Нарва. Градостроительное развитие и архитектура/Олег Коченовский. -Таллинн: Валгус, 1991. -303 с.
- Логачев, К. И. Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость: ист.-культ. путеводитель/К. И. Логачев. -Л.: Аврора, 1988. -143 с.
- Логунова, М. О. Тема ключей в иконостасе Петропавловского собора/М. О. Логунова//Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. -Вып. 22. Храмы Петровской эпохи: материалы междунар. науч. конф. -СПб.: Нестор-история, 2012. -С. 157-166.
- Максим (Козлов), прот. Западное христианство: взгляд с Востока/Максим (Козлов), прот., Д. П. Огицкий. -М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. -608 с.
- Малиновский, К. В. Доминико Трезини/К. В. Малиновский. -СПб.: Крига, 2007. -232 с.
- Мозговая, Е. Б. Иконостас/Е. Б. Мозговая//Иконостас Петропавловского собора: . -СПб.: Гос. Музей истории Санкт-Петербурга, 2003. -С. 8-32.
- Погосян, Е. А. Иконостас Ивана Зарудного в Преображенской церкви Ревеля (Таллинна). Семантика и идеология/Е. А. Погосян, М. А. Сморжевских-Смирнова//Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы: сб. ст. -Вып. 14. -М.: Памятники исторической мысли, 2012. -C. 8-22.
- Постернак, К. В. Инославные заимствования в русских церковных интерьерах Петровского времени/К. В. Постернак//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. -2015. -Вып. 3. -С. 102-119.
- Постернак, К. В. Особенности архитектурно-декоративного убранства петербургских барочных иконостасов середины XVIII века (1740-е -1760-е годы): дис. … канд. искусств./К. В. Постернак. -М., 2014. -203 с.
- Прокопович, Ф. Сочинения/Феофан Прокопович. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. -502 с.
- Религиозный Петербург/ГРМ. Альманах. -Вып. 106. -СПб.: Palace Editions, 2004. -559 c.
- РГИА. Ф. 470. Оп. 5 (Внутр. оп. 76/188). Д. 33 (1726 г.).
- Сорокатый, В. М. Праздничный ряд русского иконостаса. Иконографические программы XV-XVI веков/В. М. Сорокатый//Иконостас. Происхождение -Развитие -Символика. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -С. 465-489.
- Флоренский, П. А. Иконостас/П. А. Флоренский; вступ. ст. и примеч. игумена Андроника (Трубачева). -СПб.: Азбука-классика, 2010. -218, с.
- Хрусцевич, Г. История Замойского собора (1720 года)/Гавриил Хрусцевич. -Вильна: Тип. губ. правл., 1880. -308 с.
- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31.
- Чистович, И. А. Феофан Прокопович и его время/И. А. Чистович. -СПб.: Имп. акад. наук, 1868. -752 с.
- Элькин, Е. Н. Иконостас Петропавловского собора/Е. Н. Элькин//Краеведческие записки: Исследования и материалы. -Вып. 2. -СПб.: Акрополь, 1994. -С. 149-159.
- Яковлев, Е. Г. Богородица христианского Востока и Мадонна христианского Запада/Е. Г. Яковлев//Философские науки. -2001. -№ 3. -С. 65-72.
- Saint Peter and Paul Cathedral and Grand Ducal Burial Chapel. Album. -SPb.: SMHStP, 2006. -160 p.: il.