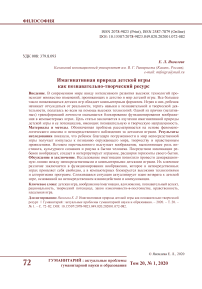Имагинативная природа детской игры как познавательно-творческий ресурс
Автор: Яковлева Елена Людвиговна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (49), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. В современном мире ввиду интенсивного развития высоких технологий происходит множество изменений, проникающих в детство и мир детской игры. Все большее число появляющихся детских игр обладает компьютерным форматом. Играя в них, ребенок начинает отчуждаться от реальности, терять навыки к познавательной и творческой деятельности, полагаясь во всем на помощь высоких технологий. Одной из причин (негативных) трансформаций личности оказывается блокирование функционирования воображения в компьютерных играх. Цель статьи заключается в изучении имагинативной природы детской игры и ее потенциалов, имеющих познавательную и творческую направленность. Материалы и методы. обозначенная проблема рассматривается на основе феноменологического анализа и непосредственного наблюдения за детскими играми. Результаты исследования показали, что ребенок благодаря погруженности в мир непосредственной игры получает импульсы к познанию окружающего мира, творчеству и нравственным проявлениям. Истоком перечисленного выступает воображение, выполняющее роль инстинкта, культурного сознания и разума в бытии человека. Посредством имагинации ребенок воображает, создает и интерпретирует играемое, расширяя горизонты своего бытия. Обсуждение и заключение. Исследование имагинации позволило провести демаркационную линию между непосредственными и компьютерными детскими играми. Их ключевое различие заключается в функционировании воображения, которое в непосредственных играх проявляет себя свободно, а в компьютерных блокируется высокими технологиями и алгоритмами программ. Сложившаяся ситуация актуализирует идею возврата к детской игре, основанной на непосредственном взаимодействии и коммуникации.
Детская игра, воображение/имагинация, вдохновение, познавательный аспект, рациональность, творческий потенциал, закон изменчивости-в-постоянстве, нравственность, идеальная игра
Короткий адрес: https://sciup.org/147218386
IDR: 147218386 | УДК: 008: | DOI: 10.15507/2078-9823.049.020.202001.072-082
Текст научной статьи Имагинативная природа детской игры как познавательно-творческий ресурс
Интенсивное развитие современного общества, обусловленное распространением высоких технологий, приводит к трансформации некоторых феноменов в бытии личности. К их числу можно отнести детскую игру. Сопровождая взросление ребенка, она выполняет роль не только релаксирующего, но и структурообразующего, познавательно-творческого фактора. Игра помогает ребенку приобщиться к социальному и познать мир. Все большее число игр в мире детства сегодня оказываются компьютерными, что приводит к постепенному исчезновению игр, основанных на непосредственном взаимодействии и коммуникации. Компьютерные игры «выстроили гладкую поверхность, бесконеч- ный экран мира, позволяющий переживать, действовать и даже как-то организовывать себя, совершенствовать навыки, общаться с людьми, изменять свой статус, и все это – без малейшего проникновения вглубь, без открытия и выявления тайного». Завороженный технологичностью, гиперреалистичностью и динамичностью искусственного мира, играющий-Я-ребенок начинает «превращать себя в машину» [8]. Его жизненные проявления приобретают отчужденный и автоматизированный характер, сопровождаемый желанием сбежать из действительности в виртуальное пространство и начать/продолжить компьютерную игру, чтобы «извлекать свой квант удовольствия из этой автоматизации, быть не собой, быть другим, быть машиной в машине». Ком- пьютерные игры уводят «от непосредственной встречи с бытием в мерцающий и непостоянный мир иллюзий» [8], в результате чего у ребенка обнаруживается снижение интереса к реальности и знаниям, теряется умение творческого подхода к ситуациям и взаимодействия с людьми.
Отметим: как непосредственная, так и компьютерная игра – это место встречи воображаемого и реального, удерживающих «мгновение теперь , в котором сходится вся возможная Вселенная, чтобы стать единственной в своем роде действительностью того, кто живет только в этом действии» [8]. При этом воображаемое в компьютерных играх обладает технологизированной природой, а в непосредственных – естественной, связанной с функционированием воображения. Обнаруженное различие послужило импульсом для анализа воображения и имагинативной природы непосредственной детской игры, выяснения их роли в жизни ребенка.
Обзор литературы
Являясь объектом изучения специалистов различных областей, игра анализируется философами, культурологами, социологами, политологами, психологами и педагогами. Начиная с Античности, с идей Платона и Аристотеля, игрология занимает довольно устойчивые позиции в научном дискурсе. Практически в каждой эпохе мы обнаружим интерес к игре и теоретические высказывания о ней. Но сегодня, к ставшим уже классическими трудам об игре [5; 7; 9], добавляются новые, исследующие ее компьютерный вариант [8], тем самым расширяя проблемное поле исследований.
Методы
Методологической основой рассуждений стали идеи Я. Э. Голосовкера, связанные с воображением [1], и Ж. Делеза об идеальной игре [3]. Благодаря им обозначенная проблема рассматривается на основе феноменологического анализа и не- посредственного наблюдения за детскими играми. Логика рассуждений выстраивается от общей характеристики воображения к особенностям формирования пространств бытия игры и восприятия игрового времени посредством него.
Результаты исследования
В мире детства особое место занимает воображение, организующее пространства ребенка и задающее алгоритмы его поведения. Наиболее наглядно его функционирование проявляется в играх. Неслучайно Я. Э. Голосовкер называет воображение, выполняющее главную роль в рождении и формировании мира игры, одновременно инстинктом и высшим разумом человека, интуицией и культурным сознанием, ирреальностью и реальностью. Интуитивные силы воображения связаны с концентрацией и мобилизацией в едином центре энергий жизненной силы, эмоций и ума, устраняющими эгоистическое Я: «человек становится всецело имагинативной волей, умственной волей», помогающей проникнуть в неведомое/непроницаемое и моментально воплотить в творчестве «то, что надо, и так, как надо» [1], познавая создаваемое. Именно воображение становится первоначальным импульсом к игре, являющейся одним из элементов человеческой активности, связанным с онто- и филогенезом. При этом функции имагинации в игре разнообразны: она оказывается побудом к игре, энергией, выстраивающей, поддерживающей и интерпретирующей игровой мир.
Мир детской игры есть мир имагина-тивный: он имеет сходство с реальностью, но ею в полном смысле слова не является. На данное свойство игры указывал Й. Хейзинга в работе «Человек играющий» [7]. Характеризуя игру, нидерландский исследователь назвал присущие ей инобытийность и вымышленность, не совпадающие с реальностью, но при этом увлекающие личность процессуальностью [7, с. 70]. Имагинатив- ный мир игры рождается в бытии из небытия, являя собой Ничто/мир воображаемый, трансформирующийся в процессе развертывания в Нечто/мир реальный. В игре ребенка встречаются два мира: Нечто/мир реальный и Ничто/мир воображаемый. На реальный мир накладывается мир иллюзорный, в котором Я-ребенок перевоплощается в играющего-Я-ребенка. Последний становится персонажем, одновременно принадлежащим и действительности, и сфере воображения. Разыгрываясь на воображаемой сцене, детская игра помогает ребенку, исполняющему главную роль, попробовать себя не только в качестве Я, но и Я-Другого, примеряя множество амплуа. Ребенок вживается в игрового персонажа, органично меняя миро(само)ощущение, манеру говорить и держаться, что придает игре флер магии, за(о)чаровывая игрока. При этом для ребенка грань между Нечто и Ничто оказывается размытой. В мире детства Ничто/ мир воображаемый обладает всей полнотой бытия: здесь существует жизнь во всех ее проявлениях. В игре рождается параллельный бытию мир, существующий как его противоположность и одновременно как особая реальность, обладающая свойством являться-в-своем-явлении, заполняя бытийно-игровые пространства действительно существующим.
Особую роль в функционировании воображения играет вдохновение, усиливающее его действенность способностью мечтать и воплощать мечту в жизнь. Так, при создании имагинативного образа в игре требуется не только связь с окружающим миром, но и отвлечение от него. Ребенок, получая жизненный опыт, одновременно фиксирует образы реальные и фантастические, в том числе созданные силой его собственного воображения. Самопроизвольно сохраняющиеся в памяти ребенка образы комбинируются между собой. Воображение, руководствуясь вдохновением, осуществляет нужный выбор, демонстрируемый ребенком в игре. Данный выбор «мгновенен, совершается без размышлений, само собой, и при этом до того точен и логичен», что создается впечатление, будто кто-то внутри ребенка «или с какой-то “духовной высоты”» [1] диктует ему, каким образом воплотить игрового персонажа.
Обратим внимание еще на одну специфику воображения. Я. Э. Голосовкер проводит четкую линию между воображением и фантазированием. Фантазия только частично совпадает с воображением, представляя одну из его граней: она помогает создать несуществующее или то, что личность еще не знает. Ввиду отсутствия в фантазии познавательного компонента она оказывается слепой, что «мешает воображению в его творческо-познавательном процессе» [1]. Как мы считаем, выделенный Я. Э. Голо-совкером творческо-познавательный ресурс воображения принципиален и ложится в основу наших рассуждений.
Воображение формирует пространства бытия игры, где ключевая роль принадлежит познавательным и творческим актам. Первоначально остановимся на познавательном аспекте воображения. Как «высшая познавательная сила ума» имаги-нация «созерцает мир непосредственно», с помощью «дара синтетического проникновения в суть стихийных отношений и мыслительных связей», «вкладывает в эту суть смысл», воплощая в содержании игрового процесса, его образах или идеях [1]. Подобная логика функционирования воображения свидетельствует о его рациональности и гносеологическом потенциале. При этом «наше воображающее око охватывает все и целиком, и в раздельности, снаружи и внутри», существующее в опыте и вне его пределов [1], т. е. проникновение имагина-ции в природу явлений оказывается объемным, помогая понять их суть. Более того, оно свидетельствует о наличии в воображе- нии дара всеобъемлющего проникновения, что говорит об исключительной врожденной способности, проявляющей себя в силу внутренних необъяснимых импульсов. Полученные непостижимым способом данные (из Нечто/мира реального и/или Ничто/ мира воображаемого) имагинация не только отражает, подобно зеркалу, но и перерабатывает, синтезирует, что приводит к рождению иного – реального, фантастического и/или реально-фантастического/фан-тастическо-реального. Посредством воображения осуществляется познание смысла комбинируемых элементов, являя метаморфозу перехода от неизвестного/незнаемого к известному/знаемому.
Перечисленные особенности воображения (гносеологический потенциал, рациональность, непостижимость) присутствуют и в детских играх. С одной стороны, выбирая игру и роль в ней, ребенок руководствуется спонтанно-эмоциональным принципом «я хочу», нередко не умея объяснить его. С другой стороны, игровые персонажи, воплощаемые ребенком, оказываются рационализируемыми. Ребенок осмысленно подходит к ситуации, играя Я-Другого, и меняет облик посредством положения корпуса тела, жестов, взглядов, походки, голоса, речи и пр., демонстрируя актерское мастерство. Как справедливо заметил Я. Э. Голосовкер в работе «Миф моей жизни», артист живет внутри каждого человека: «Мы о нем знаем и в то же время не знаем, мы о нем помним и в то же время забываем» [2]. Ребенок разыгрывает не только других, но и себя. Играющий-Я-ребенок в игровом процессе воплощает иное бытие, отделяясь от себя и представляя Я-Другого. Он «постоянно действует, то есть играет, играет, играет и никогда не перестает играть» [2]. Благодаря азартности и во(у) влеченности ребенок, с одной стороны, забывает о себе, с другой – играя, сохраняет контроль над ситуацией, понимая, что воплощает играемого персонажа с определенными чертами (индивидуальными/ увиденными/воображаемыми). В процессе перевоплощения, обусловленного неразделимым единством реального и игрового, существующего и воображаемого, ребенок преображается. Примеряя к себе образ Другого, он расширяет собственный горизонт. Имагинативность игровых миров помогает установить активную связь с действительностью, способствуя освоению мира. Несмотря на воображаемость создаваемых пространств, детская игра являет собой подлинность, помогая интуитивно проникнуть в бытие и получить знания. Отметим: о гносеологическом потенциале игры рассуждал И. Кант. Он утверждал, что «существует такая видимость, с которой дух играет и не бывает ею разыгран. Через эту видимость создатель ее не вводит в обман легковерных, а выражает истину, облаченную видимостью. Эта видимость не затемняет внутренний образ истины, которая предстает перед взором украшенной, и не вводит в заблуждение неопытных и доверчивых притворством и надувательством, а используя проницательность чувств, выводит на сцену сухую и бесцветную истину, наполняя ее красками чувств» [Цит. по: 6]. Согласно немецкому философу, вовлеченность в видимые/имагинативные игровые миры приводит ребенка к открытию мироздания и получению знания о нем, сопровождаясь разнообразными эмоциями.
В игре посредством невидимой работы воображения «может рождаться смысл» [8]. В динамичности игрового процесса с его спонтанностью и свободной импровизацией, «из порыва зрения, слуха, обоняния, осязания рождается познавательный порыв зреть, слушать, обонять, осязать и овладеть, и понимать все это в себе самом, ибо если понимания нет, то рождается порыв все это воображать, выдумывать и даже выдумывать само понимание всего». Именно вооб- ражение оказывается побудом к познанию, помогая «вложить смысл в существование» [1], тем самым вдохновляя ребенка к дальнейшим интеллектуальным поискам. Генезис познания в игре осуществляется от воображения через воплощение к осмыслению, итогом чего является кристаллизация смысла. Ребенок, увлеченный созданием игрового мира, начинает понимать смысл творимого, видя думаньем (Я. Э. Голосов-кер). Интеллектуальный компонент игрового процесса оказывается достоинством детской игры. Как заметил Л. Кэрролл, игра «не только служит неисчерпаемым источником развлечения… но и позволяет игроку узнать нечто новое» [4, с. 9], что дает возможность расширять жизненный горизонт с удовольствием. Подчеркнем: не только игра оказывается наполненной чувствами и смыслами, но и ее интерпретация сопровождается эмоционально-интеллектуальными открытиями.
Анализируя творческий потенциал игрового пространства, задаваемый воображением, отметим следующие моменты. Игровой воображаемый мир рождается в реальности. Ребенок как человек играющий (Й. Хейзинга) [7] постоянно создает воображаемые миры, поэтому его можно считать и человеком творящим. Отталкиваясь от заданного игрового алгоритма, сценарий игры ребенок пишет сам, импровизируя в нем. В детских играх главенствует случай, который разветвляет процесс на многочисленные комбинации-созвездия. Бесконечное количество вариантов одной игры приводит к тому, что ни один из них «не является окончательным, все они разветвляются, порождая другие» [3, с. 85]. Ребенок, нередко соединяя несовместимое, начинает свободно обращаться с полученным материалом, устанавливая связи, пробуя их в разных конфигурациях и моделируя ре-ально-фантастические/фантастическо-ре-альные конструкции. Творческая свобода и импровизационность игрового процесса увлекают ребенка: он, постоянно внося новые элементы и детали, каждый раз по-другому выстраивает игру и свою роль, трактует происходящее, делая его более динамичным, захватывающим и интригующим.
Имагинация как культурное сознание удовлетворяет потребность ребенка в наличии идеального, конструируя его в иллюзорном мире и затем перенося посредством игры в реальность. Еще Ф. Шиллер обратил внимание на данный факт. Он считал, что игровая видимость, превосходящая действительность совершенством и изяществом, позволяет человеку играющему наслаждаться создаваемым [9]. Вера в идеал живет в сознании ребенка, а воображение реализует ее. Имагинация создает «нечто невозможное в мире действительном», признаваемом впоследствии более действительным, «чем сама действительность» [1]. В игровом процессе ребенок конструирует беззаботный мир счастья и согласия. Даже появляющиеся в нем конфликтные ситуации направлены к разрешению, устанавливая гармоничные взаимоотношения. Стремясь к гармонии и совершенству, игра претворяет в жизнь некий абсолют/ идеальный образец. Спонтанно воображая несуществующее (взятое из внешнего и/ или внутреннего мира) и конструируя его в идеальное, ребенок вплетает результат в игру. В ней идеальное имагинативного мира превращается в реальность. Сила воображения заключается в том, что создаваемые им имагинативные миры не дублируют действительность, а создают «новое, “небывалое”, возможное, вероятное – наряду с невозможным» [1]. Интересно, что в детской игре мечты об идеальном воплощаются в действительность: Ничто творческими ресурсами воображения переводится в Нечто. Игровой процесс оказывается возможностью реализации идеального, что противоположно пассивному принятию те- кущего положения дел. Именно рождаемая воображением абсолютность игровых пространств, их развертывание в-себе и для-себя позволяет ввести понятие идеальной игры по отношению к миру детства.
Создаваемый имагинативный мир как ипостась идеала/абсолюта обладает совершенством и неизменностью, выступая побудом стремления к нему личности, что нашло отражение в законе изменчивости-в-постоянстве . Функционирование воображения построено на данном законе. Има-гинация как константа в бытии личности проявляет изменчивость в многочисленных метаморфозах посредством роли абсолюта-побудителя (конструирует идеал/со-вершенство), а затем – абсолюта-творца (реализует идеал/совершенство). В игре как постоянной форме культуры наблюдаются метаморфозы Ничто в Нечто, преобразования творческого порыва и вдохновения в определенную разумность смысла. Внутри постоянной игровой формы мы видим динамичные изменения и появление новых смыслов содержания. Ребенок, «работая одной силой воображения», «воплощает свой порыв к совершенству в совершенство своего творения» [1]. Активность ребенка в игре проявляется в имагинативном творчестве и свободном импровизировании с содержанием, ролями, игровыми предметами, что дарит игроку чувство легкости, приводя к радостному возбуждению.
Воображение «предъявляет ко всему абсолютные требования и ставит абсолютные ценности – этические, эстетические, познавательные», подчиняя «все понятию “совершенства”» [1]. Среди абсолютов воображения Я. Э. Голосовкер особо выделяет нравственность: «моральные начала только постольку онтологичны и естественны, поскольку онтологична и естественна сама деятельность воображения или «разум воображения»» [1]. Воображение исходит из бытия, представляющего собой абсолют облагороженного «есть». Нравственность не уничтожима в сознании индивида, поэтому она изначально присутствует во всех его творениях, в том числе в игре, на что указывал и Й. Хейзинга [7]. В игре нравственность проявляется не только в соблюдении правил, но и в выстраивании партнерских отношений, признающих уникальность, независимость и свободу Другого. Понимание этого формирует в ребенке умение выстраивать нравственные взаимоотношения, основанные на уважении к Другому, ощущении причастности к группе, эмпатии, ответственности за свои действия.
Обратим внимание еще на один нравственный момент. Несмотря на вообража-емость игрового мира, ребенок различает иллюзию и обман. Если иллюзия органична природе игры, то обман выступает в качестве средства ее разрушения. И. Кант был принципиален в этом вопросе: меркантильности обмана он противопоставлял иллюзию как бескорыстную игру, указывая на этимологическую связь латинских слов illusion и illudo («я играю»). Философ подчеркивал: «Видимость, которая обманывает, исчезает, когда становится известной ее бессодержательность и обманчивость. Но играющая видимость, так как она есть не что иное, как истина в явлении, все же останется даже и тогда, когда становится известным действительное положение вещей» [Цит. по: 6]. Несмотря на воображае-мость рождаемых миров, детская игра – это пространство подлинности. Согласимся с Л. Т. Ретюнских, заключившей, что «будучи мнимой, игра никогда не бывает лживой, ибо ложь невозможна там, где изначально присутствует видимость, не выдаваемая за реальность, а существующая сама по себе» [5, с. 109]. В игре ребенок интуитивно чувствует ложь и симуляцию, открыто протестуя и изгоняя их из пространства. Обман, проявляющийся в нарушении правил, создании неоднозначных ситуаций, мошенни- честве, негативно сказывается на игровой стихии, разрушая ее и переводя в разряд нечестных.
Воображение, создающее в игре познавательно-творческие пространства, влияет и на восприятие игрового времени. Играющий ребенок специфично понимает время: все временные пласты посредством функционирования воображения встречаются в игре, но в особой модальности, где, с одной стороны, «всегда ограниченное настоящее, измеряющее действие тел как причин и состояние их смесей в глубине (Хронос); с другой – по существу неограниченные прошлое и будущее, собирающие на поверхности бестелесные события в качестве эффектов (Эон)» [3, с. 86]. При этом в процессе развертывания игры преобладает настоящее, заставляющее ценить и максимально использовать каждое мгновение, потому что в нем присутствует шанс выи-грать/понять смысл. Как замечает по этому поводу Ж. Делез, игровое настоящее «впитывает в себя прошлое и будущее, сжимает их в себе и, двигаясь от сжатия к сжатию, со все большей глубиной достигает пределов всего Универсума, становясь живым космическим настоящим» [3, с. 86]. В итоге рождается потрясающий эффект: в детской игре настоящее одновременно ограничено и бесконечно растянуто. Погруженный в игру ребенок теряет ощущение времени, становящееся для него бесконечным, но при этом многочасовая игра сворачивается в одно мгновение. Благодаря интенсивности вовлечения в игровой процесс время для ребенка, с одной стороны, сжимается, с другой – растягивается, создавая ощущение бесконечно длящегося континуума. Ведущую роль в создании психологического эффекта амбивалентности времени играет, как мы считаем, сила имагинации. Посредством воображения происходит метаморфоза времени: в нем часть оказывается больше целого. Неслучайно игровая секун- да «длится дольше, чем десятилетие в воображении» [1]. Объяснение данному парадоксу находим у Ж. Делеза. Он считает, что в игре прошлое и будущее делят мгновение «настоящего до бесконечности, каким бы малым оно ни было, вытягивая его вдоль своей пустой линии» [3, с. 86]. Каждый игровой временной пласт неоднороден: «один составлен только из сплетающихся настоящих, а другой постоянно разлагается на растянутые прошлые и будущие» [3, с. 87]. Ребенок, увлеченный игрой, способен рационально растягивать время, конструируя игровой процесс и наполняя его смыслами, а эмоционально – сжимать, обращая в одно мгновение, насыщенное колоссальным количеством аффектов/стра-стей/чувств/переживаний.
Обсуждение и заключение
Детскую игру можно отнести к идеальным конструкциям со своим пространственно-временным континуумом, демонстрирующим абсолюты бытия. Огромная роль в этом принадлежит воображению, являющемуся инстинктом, высшим разумом и мерилом культуры. Воображение оказывается истоком детской игры, ее познавательно-творческих ресурсов и нравственности. Благодаря функционированию воображения устанавливается действенная связь между Ничто/миром воображаемым и Нечто/миром реальным, потенциальным и воплощаемым. В игровом процессе воображение оказывается стимулом/побудом стремления к идеалу и деятельности, к потребности знать и творить, в чем проявляется его мощь.
Среди элементов имагинации в процессе игры можно назвать фантазирование, вдохновение, сосредоточенность в-себе и действие во-вне, осознанно-неосознанное комбинирование, восприятие и/или постижение смысла, саморазвитие мысли. Перечисленное базируется на законе изменчивости-в-постоянстве, истоком которого оказывается имагинация. В игре идеальное имагинативного мира превращается в реальность. Можно утверждать, что в бытии играющего ребенка имагинатив-ный абсолют тройственен в своем воплощении, проявляясь как стимул/творческий импульс, деятельность и творение.
Воображение создает познавательнотворческое пространство игрового мира, помогая ребенку проявиться как личности, созидающей мир и познающей его. Имаги-нация рождает Ничто/мир воображаемый как реальность, проникает в его суть силой вдохновенного поиска, а затем превращает в Нечто/мир реальный, интерпретируя содержание воплощенного в действительность. Творчески комбинируя разнородное, воображение углубляется в невидимое и созданное, давая знания о них.
Имагинация рождает иллюзию метаморфозы времени, оказывающегося одновременно сжатым и растянутым. Следя за событийно-содержательной, довольно непредсказуемой канвой игрового процесса и постоянно вопрошая о нем ( что сейчас произойдет? каким образом развернутся события? ), ребенок увлекается происходящим и теряет ощущение продолжительности времени. В итоге в детской игре мы встречаем реальность воображаемого и длящееся-теперь , где ребенок активен при достижении целей. Посредством воображения ребенок одновременно творит и познает, расширяя горизонты своего бытия.
Встает вопрос: что происходит в современном мире с форматом детских игр? Из них исчезает естественное воображение, а значит, и его познавательно-творческие ресурсы, что негативно сказывается на метафизике личности. Большинство детских игр сегодня имеют компьютерный формат, где акценты смещаются с непосредственного взаимодействия на симу-лятивную коммуникацию в пространстве высоких технологий, нередко обладающих разрушительным/деструктивнымхарактером. В данных играх так же, как и в идеальных детских играх, из Ничто создается Нечто, но процесс осуществляется посредством техники и обладает симулятивным характером. Компьютерные игры игнорируют функционирование воображения и даже подавляют его: ребенок в них имеет дело с креативным меонизмом (В. А. Кутырев), где природное заменяется технически-ис-кусственным. Ничто в компьютерных играх не принадлежит миру ребенка и его воображению: оно есть технологизированный воображаемый мир, созданный алгоритмами программного обеспечения его разработчиками и воплощаемый посредством цифровых матриц. Компьютерные игры, втягивая ребенка в готовые лабиринты действий, учат его просчитывать, а не искать/ изобретать/строить новое. Компьютерные игры буквально уничтожают многообразные импульсы воображения, в результате чего ребенок перестает самостоятельно мечтать и воображать, креативно мыслить и проявлять себя, надеясь в любых ситуациях на силу высоких технологий. Компьютерные игры, подавляя функционирование воображения, приводят к упадку/снижению уровня культуры, продуцированию анома-лий/уродства/лжи. Ребенок начинает жить в пустоте виртуального мира, проявляя себя автоматически и равнодушно взирая на реальный мир.
Врожденность имагинации позволяет сделать вывод о возможности ее поддержания, развития и проявления на протяжении всей жизни личности. Подчеркнем: учитывая современную ситуацию, с каждым годом подобное осуществить становится все труднее из-за простоты и навязчивости компьютерных игр, делающих ребенка невосприимчивым к переключениям, растущей инфантильности, требований современной системы образования, связанного с компьютеризацией обучения. Тем не менее предпринимать усилия по реабилитации воображения сегодня оказывается насущной потребностью. Для минимизации негативных последствий, связанных с уничтожением функционирования воображения посредством современного формата компьютерных игр, необходимо возрождать традиционную дворовую культуру, формировать самостоятельность и инициативность ребенка, переключать его внимание на непосредственные детские игры, позднее знакомить с миром виртуальной реальности и компьютерными играми, ограничивать время работы за компьютером, учить проводить четкие грани между реальностью и виртуальностью, миром игровым и виртуально-игровым. Перечисленное будет способствовать (с)охра-нению детской игры в ее чистом, первозданном виде, а значит – и воображения, что позитивно скажется на метафизике личности, использующей в жизнедеятельности познавательно-творческие ресурсы имагинации.
Список литературы Имагинативная природа детской игры как познавательно-творческий ресурс
- Голосовкер Я. Э. Имагинативный Абсолют [Электронный ресурс]. - URL: http://litresp.ru/chitat/ru/Г/golosovker-yakov-emmanuilovich/izbrannoe-logika-mifa/2. - Загл. с экрана.
- Голосовкер Я. Э. Миф моей жизни [Электронный ресурс]. - URL: https://fil.wikireading.ru/58031. - Загл. с экрана.
- Делез Ж. Логика смысла. - М.: Академический Проект, 2011. - 472 с.
- Кэрролл Л. Логическая игра. - М.: Наука, 1991. - 192 с.
- Ретюнских Л. Т. Философия игры. - М.: Вузовская книга, 2002. - 255 с.
- Столович Л. Н. "Тартуская рукопись" Канта и его эстетическое учение // Столович Л. Н. Философия. Эстетика. Смех. - СПб.; Тарту, 1999 [Электронный ресурс]. - URL: https://pravo.studio/etika-estetika/tartuskaya-rukopis-kanta-ego-esteticheskoe-78947.html. - Загл. с экрана.
- Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 350 с.
- Шевцов К. П. Компьютерные игры как предмет философского анализа // Вестник СПбГУ. - Сер. 17. - 2016. - Вып. 1.
- Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека [Электронный ресурс]. - URL: http://yanko.lib.ru/books/cultur/shiller=letters.htm. - Загл. с экрана.