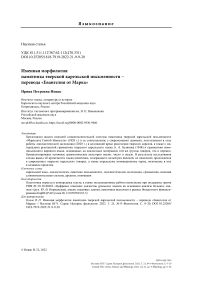Именная морфология памятника тверской карельской письменности - перевода "Евангелия от Марка"
Автор: Новак И.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Представлен анализ именной словоизменительной системы памятника тверской карельской письменности «Маркешта Святой Іôванӷели» (1820 г.) и ее сопоставление с современными данными, полученными в ходе работы лингвистической экспедиции (2020 г.) в козловский ареал расселения тверских карелов, а также с материалами рукописной грамматики тверского карельского языка А. А. Белякова (1948) и грамматики новописьменного варианта языка, основанных на диалектных материалах той же группы говоров, что и перевод. Проанализированы основные грамматические категории имени: число и падеж. В результате исследования сделан вывод об архаичности языка памятника, содержащего целый ряд явлений, не нашедших продолжения в современных тверских карельских говорах, а также определены инновационные черты, возникшие в них в недавнем прошлом.
Карельский язык, диалектология, памятник письменности, лингвистическая экспедиция, грамматика, именная словоизменительная система, архаизм, инновация
Короткий адрес: https://sciup.org/147239031
IDR: 147239031 | УДК: 811.511.112'367.62-112(470.331) | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-9-9-20
Текст научной статьи Именная морфология памятника тверской карельской письменности - перевода "Евангелия от Марка"
Acknowledgements
The preparation of the corpus and concordance of the text, as well as expeditionary work, was carried out with the support of the Russian Science Foundation grant no. 20-18-00403 “Digital description of the dialects of the Uralic languages based on the analysis of big data”, the analysis of the linguistic data of the monument was carried out under the state order of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (research topic no. 121070700122-5)
Novak I. P. Nominal Morphology of the Tver Karelian Translation of “Gospel of Mark”. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 9: Philology, pp. 9–20. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-9-9-20
В 2020 г. исполнилось 200 лет первому печатному изданию на тверском карельском языке – переводу Евангелия от Матфея «Герранъ мiя¨нъ Шюндю-руŏхтынанъ Святой Іôванӷели Матвѣйста» (1820) 1, а также рукописи перевода Евангелия от Марка «Маркешта Святой Іôванӷели» 2, поступившей в том же 1820 г. в Российское библейской общество. Эти переводы относятся исследователями к одним из первых лексикографических памятников тверского карельского языка. Им предшествует лишь недавно обнаруженная в авторском сборнике древнерусского книжника Прохора Коломнятина карело-русская словарная запись 1668 г. «Сказание о преведении корѣльскаго речения на слове(н)ский» [Савельева, 2019].
Тверские карельские переводы Евангелий являются памятниками исключительного значения для исследования истории карельского языка, его исторической грамматики, а также диалектологии. В них представлен тверской карельский диалект (козловский говор) собственно карельского наречия начала XIX в., т. е. того периода, когда карелы, переселившиеся в XVI–XVII вв. с исторической родины – северо-западного Приладожья, проживали в Верх- неволжье около двух столетий. С одной стороны, в языке еще сохранились отдельные архаичные черты древнекарельского языка, с другой – в нем уже наметились основные черты, характеризующие тверскую диалектную речь. На момент создания переводов (1817–1820 гг.) язык еще не был подвержен сильному влиянию со стороны соседнего русского языка, поскольку вплоть до конца XIX в. карельский язык в регионе оставался основным средством общения [Громова, 2011, c. 44].
Оба перевода Евангелий были выполнены священником села Козлова Вышневолоцкого уезда Григорием Ефимовичем Введенским и священником Новоторжского духовного уездного училища Матвеем Андреевичем Золотинским [Тверские переводные памятники..., 2020, с. 3–12]. История возникновения переводов четко прослеживается по архивным источникам 3, что позволяет идентифицировать их язык как козловский говор тверского карельского диалекта начала XIX в. Публикация перевода Евангелия от Матфея вызвала большой резонанс в финно-угроведении. Второй же памятник, перевод Евангелия от Марка, долгое время оставался неизвестным лингвистам, пока не был обнаружен в 1959 г. в фондах Российского библейского общества Г. Н. Макаровым. Им же была подготовлена и опубликована первая расшифровка рукописи [Макаров, 1971].
Описанию графической, фонетической и лексической систем языка обоих памятников посвящен ряд статей отечественных языковедов 4, однако морфологическая система переводов до сих пор не становилась предметом анализа. В рамках настоящего исследования для платформы Lingvodoc были подготовлены корпус и конкорданс текста перевода Евангелия от Марка 5, на основании которого произведен анализ его именной словоизменительной системы. К исследованию привлечены также рукописная «Грамматика карельского языка: Калининское наречие собственно-карельского диалекта» А. А. Белякова [1948], грамматика тверского карельского новописьменного языка [Новак, 2020], образцы тверской карельской речи второй половины XX в. 6, а также полевые материалы экспедиции 2020 г. в Козловское сельское поселение Спировского района Тверской области (4 информанта: И1 – 1965 г. р., урожд. д. Еремеевка, И2 – 1957 г. р., урожд. д. Житниково, И3 – 1947 г. р., урожд. д. Березай, И4 – 1943 г. р., урожд. д. Березай), анализ материалов которой позволил определить ряд категорий, продуктивных в языке памятника, но вышедших из активного употребления в современном тверском карельском диалекте.
Для карельского языка, относящегося к языкам агглютинативного типа 7, характерна следующая структура именной словоформы: лексическая основа слова + показатель числа + падежное окончание + притяжательный суффикс. В рамках настоящей статьи предлагается обратиться к анализу категорий числа и падежа.
Грамматическая категория числа
Для именной словоизменительной системы языка анализируемого памятника характерно противопоставление единственного (не маркировано) и множественного числа (соотношение 77 к 23 %).
Для выражения множественного числа номинатива и аккузатива используется окончание - тъ , восходящее к уральскому языку-основе [Lehtinen, 2007, S. 67]: Варраштамизе тъ , отанна тъ , (абивойна тъ ), вшжагукше тъ , муаниво тъ , пага тъ азгё тъ... ‘Кражи, взяточничества, обиды, коварства, обманы, плохие дела...’ (7:22) 8 ; ...начина ть олдыхъ эй югенъ-уалазе тъ . ‘...речи были неодинаковые.’ (14:56).
В косвенных падежах для образования форм множественного числа употребляются суффиксы - й- , - и- , возводимые языковедами к уральскому языку-основе [Hakkinen, 2002, S. 73], а также - лой- / - лой- , восходящий к древнекарельскокому языку [Основы..., 1975, с. 54; Les-kinen, 1998, S. 365; Tuomi, 1990, S. 195]: Ляккöмя лягиз и хъ кюл и хъ и линно й хъ ... ʻПойдем в ближние деревни и города...ʼ (1:38); А иче шюввяхъ лѣшки лöй нъ коди ло я, и шильм и сся вiйколойнъ кумаррéллахъ... ʻА сами едят дома вдов и на глазах долго молятся...ʼ (12:40).
Дистрибуция показателей множественности в тексте памятника не отличается от современного представительства явления в тверских карельских говорах, а также от их распределения в привлекаемых к сравнению грамматиках [Беляков, 1948, c. 42–49; Новак, 2020, c. 53–57]:
-
1) показатель - й - используется:
-
• в именах с основой на - а / - я , когда присоединение показателя вызывает чередование - а / - я : -о / -о : ялло й -ла < ялга ‘нога’, вилло й -хъ < вилла ‘шерсть’, равдо й -хъ < равда ‘железо’;
-
• в многосложных именах с основой на дифтонг, когда в результате присоединения форманта выпадает первый компонент дифтонга: ойаъ й -да < ой^гё ‘правильный’, пухте й -са < пухтыё ‘кровотечение’, вуатте й -да < вуаттыё ‘одежда’;
-
2) показатель - и- употребляется:
-
• в именах на - а / - я , когда эти гласные выпадают перед показателем множественности: шильм и -сся < шильмя ‘глаз’, корв и -хъ < корва ‘ухо’, пой и -лда < пойга ‘сын’;
-
• в двуосновных именах с основой на - е : мгёг и -стя < мгёшъ ( мгёге -) ‘человек’, лягиз и -хъ < ляхинт ( лягизе- ) ‘ближний’, лапш и -лла < лапши ( лапше -) ‘ребенок’;
-
3) в остальных словоизменительных типах (одноосновные имена с основой на - е , - и / -ы , лабиализованные гласные, а также односложные имена на дифтонг) используется показатель - лой / - лой -: лембо- лой -ла < лембо ‘черт’, тавды- лой -сса < тавды ‘болезнь’, пуу- лой -ста < пуў ʻдеревоʼ.
Для языка памятника допустимым является использование двух вариантов образования форм множественного числа от двуосновных имен с основой на - е : кяз и -хъ < кязи ( кяде -) ‘река’, но в^з и - лой -хъ < в^зи ( в^де- ) ‘вода’. Для современных тверских говоров, как и для некоторых других говоров собственно карельского и ливвиковского наречий, также характерно отсутствие унификации в данной позиции [Беляков, 1948, c. 50–51; Бубрих и др., 1997, к. 113; Новак и др., 2019, c. 185].
Грамматическая категория падежа
Падежная система памятника представлена 14 падежами. Самыми частотными являются грамматические падежи, однако между объектными падежами в таблице частоты встречаемости падежных форм (см. таблицу) оказался внешнеместный падеж адессив, что объясняется включением в круг его значений в собственно карельском наречии полного набора функций аллатива. Довольно распространены местные падежи иллатив, элатив, инессив, аблатив, а также падеж состояния эссив, тогда как случаев использования транслатива в переводе встречается мало (29 словоформ). Самыми редкими оказались падежи с конкретной семантикой инструктив и абессив (36 и 10 словоформ).
-
8 Здесь и далее для контекстных примеров в скобках через символ «:» приводятся номера соответствующих главы и стиха.
Частота встречаемости падежных форм в тексте памятника и падежные маркеры Frequency of occurrence of case forms in the text of the monument and case endings
|
Падеж |
Встречаемость, % от всех именных словоформ |
Падежный показатель |
||||
|
всего |
ед. ч. |
мн. ч. |
памятник |
Беляков А.А., 1948 |
Новак И.П., 2020 |
|
|
Номинатив |
28,6 |
23,53 |
5,07 |
– , -тъ ( мн. ) |
– , -т ( мн. ) |
– , -t ( мн. ) |
|
Партитив |
15,67 |
12,55 |
3,12 |
-ă / -я̈ , -ŏ / -ö , -ĕ , -та / -тя , -да / -дя , -я ( мн. ) |
-а / -ä , -o / -ö , -e , -да / -дя , -та / тя |
-a / -ä- , -o / -ö , -e , -da / -dä , -ta / -tä |
|
Адессив |
15,35 |
9,91 |
5,43 |
-лла / -лля |
-лла / -ллä |
-lla / -llä |
|
Генитив |
13,93 |
10,85 |
3,08 |
-нъ ; - ( i ) ĕнъ ( мн. ) |
-н |
-n |
|
Аккузатив |
9,14 |
7,34 |
1,8 |
– , -нъ , -тъ |
– , -н , -т ( мн. ) |
– , -n , -t ( мн. ) |
|
Иллатив |
5,13 |
4,11 |
1,02 |
-хъ , -зé , -же |
-х |
-h |
|
Элатив |
4,22 |
2,8 |
1,42 |
-шта / -штя , -ста / -стя |
-шта / -штä , -ста / -стä |
-šta / -štä , -sta / -stä |
|
Инессив |
3,2 |
2,58 |
0,62 |
-шша / -шшя , -сса / -сся |
-шша / -шшä , -сса / -ссä |
-šša / -ššä , -ssa / -ssä |
|
Эссив |
1,86 |
1,33 |
0,53 |
-на / -ня |
-на / -ня |
-na / -nä |
|
Аблатив |
1,25 |
1,12 |
0,13 |
-лда / -льдя |
-лда / -лдä |
-lda / -ldä |
|
Инструктив |
0,76 |
0,06 |
0,7 |
-нъ |
отсутствует |
отсутствует |
|
Транслатив |
0,62 |
0,6 |
0,02 |
-кши , -кси |
-кши , -кси |
-kši , - ksi |
|
Абессив |
0,21 |
0,19 |
0,02 |
-тта / -ття |
-тта / -ттä |
-tta / -ttä |
Морфологически исходной формой склонения имен служит номинатив , не имеющий в единственном числе специального окончания: ...же Мивнъ в^лли , и Мивнъ чикко , и Муа-мо Мивла онъ. ‘...тот Мой брат, и Моя сестра, и Мать мне.’ (3:35); К^нъ - муон^ Тямя онъ, iдmmo и туули и м^ри Гяндя куунеллахъ? ‘Кто такой Это есть, что и ветер и море Его слушаются?’ (4:41).
Показателем генитива единственного числа является -нъ , возводимый к уральскому праязыку [Lehtinen, 2007, S. 67]: ... да иякшгёчення нъ -тяхъ, и гяне нъ -кера олиёнъ-тяхъ... ‘...да ради клятвы и ради с ним находящихся...’ (6:26); ... рохкуачегуо мяни Пилуата нъ -луо, и пак-кой Шюндюруохтына нь гибiёдя. ‘...осмелившись, вошел к Пилату и просил тело Иисуса.’ (15:43). Образование форм множественного числа генитива происходит следующим образом:
-
1) с основой множественного числа на - ( С 9) i / - ( С ) i используется окончание генитива - ёнъ : ргягкг- ёнъ < ргягкя ‘грех’, инегмизi- ёнъ < инегмин^ ‘человек’, ванг^ ёнъ < ванга ‘старый’;
-
2) с основой множественного числа на дифтонг употребляется окончание - нъ или - ( i ) ёнъ : ови-лой- нъ < ови ‘дверь’, лембо-лой- нъ < лембо ‘черт’, куол^й- нъ < куолiё ‘покойник’; каргу-лoi- ёнъ < каргу ‘медведь’, ши^oi- ёнъ < ши^а ‘свинья’, ял^oi- ёнъ < ял^а ‘нога’. Отсутствие унификации в данной позиции может объясняться трудностями передачи форм средствами кириллицы.
Схожее распределение показателей генитива множественного числа характеризует ливви-ковские и собственно карельские говоры Карелии [Бубрих и др., 1997, к. 113-114], что позволяет возвести его к древнекарельскому периоду развития языка, когда произошел переход прибалтийско-финских прязыковых показателей *- ten > - jen , *- den > - en . [Новак и др., 2019, с. 197].
В ходе полевой работы для генитива удалось зафиксировать употребление единого окончания - n (= -нъ ), что отражено и в грамматиках [Беляков, 1948, с. 42; Новак, 2020, с. 59-60]: gul’uz’i n myojoi n kohat 10 ‘места продавцов голубей’ (И1); vanhoi n kniigoi n alia ‘под старыми книгами’ (И2); Nama oldih sigoi n paimenet. ‘Это были пастухи свиней’ (И3); Koirat sywvah stolan alia lapsi n muruloida. ‘Собаки едят под столом крошки детей.’, jalloi n alla ‘под ногами’ (И4). Результаты опроса информантов, наряду с анализом тверских карельских диалектных текстов второй половины XX в., указывают на утрату тверскими говорами исконной системы образования форм множественного числа генитива, представленной в языке перевода. Наличие форм на - en , зафиксированных языковедами в толмачевских говорах конца XIX - начала XX в. [Пунжина, 1975, с. 108], позволяет датировать упрощение системы первой половиной прошлого столетия.
Дистрибуция показателей партитива единственного числа, возводимых к финно-угорскому аблативу на *-tA , подвергшемуся в прибалтийско-финском праязыке суффиксальному чередованию * -tA : *- dA [Hakkinen, 2002, S. 78; Lehtinen, 2007, S. 122], зависит от типа лексической основы слова. При склонении двух- и более сложных одноосновных имен на одиночный гласный используются показатели - а / - я * - о / - о , - ё , присоединение которых приводит к образованию восходящего дифтонга: па^лу- а < нагла ‘завязка’, пяйв^ я *< пяйвя ‘день’, элу- о < эло ‘добро, имущество’, лизявю- о < лизяво ‘добавка’, мовкю- о < мовкю ‘буханка хлеба’, ген^- ё < ген^и ‘душа’; тогда как образование форм партитива от одноосновных имен с основой на дифтонг и двуосновных имен происходит путем присоединения к основе (согласной у двуосновных) формантов - та / - тя (в глухой фонетической позиции), - да / - дя (в звонкой фонетической позиции): рагваш- та < рагваш ‘народ’, м^т- тя < м^зи ‘мед’, муа- да < муа ‘земля’, юур- да < юури ‘корень’. В грамматиках тверского карельского языка [Беляков, 1948,
-
с. 44-45; Новак, 2020, с. 61-62], как и в разговорной речи современных тверских карелов, распределение формантов происходит аналогичным образом.
Множественное число партитива в тексте памятника образуется путем присоединения трех вариантов показателей:
-
1) с основой множественного числа на - ( С i / - ( С ) i используется окончание - ё : мубзП ё < мубн^ ‘такой’, piЯXкi- ё
‘грех’, таймены- ё < тайменъ ‘всход’; -
2) с основой множественного числа на дифтонг - ой / - ой употребляется окончание - я , при этом происходит слияние конечного компонента дифтонга с аналогичной начальной фонемой показателя: шано- я < шана ‘слово’, па^ино- я < папина ‘разговор’, пуу-ло- я < пуу ‘дерево’, шиво-ло- я < шивотъ ‘поясница’, тиги-ло- я < тиги ‘мошкора’;
-
3) с основой множественного числа на прочие дифтонги используется окончание - да : ой^^й- да < ой^ё ‘правильный’, вуаттей- да < вуаттыё ‘одежда’. Схожая система характерна и для собственно карельских говоров Карелии [Бубрих и др., 1997, к. 115-118; Новак и др., 2019, с. 201-202].
В ходе полевой работы удалось зафиксировать лишь две из представленных в памятнике схем образования партитива множественного числа - на - e (= -ё ) и - da / - d’a (=- да / - дя ), что опять же указывает на упрощение данной системы. На месте показателя множественного партитива - ja / - ja (= -я ) используется формант - da / - d’a , например, Opastujat pol’l’assyttih hanen paginoi da . ‘Ученики испугались его разговоров.’ (И1); Mie n’ian miesta kuin puuloi da . ‘Я вижу людей как деревья.’, eu pert’il’oi d’a ‘нет изб’ (И2); Hyo perguacettih kivil’oi d’a vas. ‘Они бились о камни.’ (И3); Ken huiguacou hian sanoi da . ‘Кто стыдится их слов.’, evle jarvil’oi d’a ‘нет озер’ (И4). Стоит отметить, что еще во второй половине XX в. в анализируемых говорах были зафиксированы редкие формы на - ja / - ja (= -я ) [Бубрих и др., 1997, к. 115, 118], однако в грамматике А. А. Белякова они не упоминаются [Беляков, 1948, с. 4445]. При этом самый старший из опрошенных информантов единожды употребил древнюю форму множественного числа партитива на - ja / - ja в одном ряду с формой на - da / - d’a (=- да / - дя ): Evle velliloi ja , evle cikkoloi da . ‘Нет братьев, нет сестер.’ (И4).
Функции лишенного собственного окончания падежа аккузатива (см. [Lehtinen, 2007, S. 124]) распределены между номинативом и генитивом: ...пани оматъ шорм^тъ гяненъ корвихъ... ‘...положил свои пальцы на его уши...’ (7:33); К^нъ куйнъ тахтовъ шяй- люттiя" ома генги, гявиттявъ гяненъ... ‘Кто если хочет сберечь свою душу, тот потеряет ее...’ (8:35).
Образование местных падежей элатива (на - шта / - штя , - ста / - стя (после и )) и аблатива (на - лда / - льдя ), падежей состояния эссива (на - на / - ня ) и транслатива (на - кши , - кси (после и )), а также практически вытесненного адессивом из современных говоров инструктива (на - нъ ) 11 в морфологической системе памятника не обнаруживает каких-либо отличий с их современным представительством в тверском карельском диалекте [Беляков, 1948, с. 43-49; Новак, 2020, с. 64-71].
Например, элатив : И 1ерусалима шта , и ИДум^я шта , и шильдя публда 1ордануа, и Тiйра- шта , и Сидона шта ... ‘И из Иерусалима, из Идумеи и с другого берега (букв. с той стороны) Иордана, и из Тиры, и из Сидона...’ (3:8); Ияйяльди вайвуачихъ яйи ста нойи ста ... ‘И много мучилась от многих колдунов...’ (5:26);
аблатив : ... кумбазе лда мiё пiяHъ л^йканъ 1йвана лда ... ‘...у которого я голову отрезал у Иоанна...’ (6:16);
эссив : Ишано г^йля ши ня пiЯ Hа иллалла ... ‘И сказал им в тот день вечером...’ (4:35);
транслатив : И гюö ваштахъ шаноттыхъ, Рисситтяя кши Iйвана кши ... ʻИ они в ответ сказали: Иоанном Крестителем...ʼ (8:27); Мивнъ коди, малитту-кои кси нимиттiяӵ öвъ ... ʻМой дом домом молитвы называется...ʼ (11:17);
инструктив : И истуŏчеттыхъ туккулой нъ шавой нъ мiĕги нъ , вiйзи нъ кюммѣни нъ . ʻИ сели группами по сто человек, по пятьдесят.ʼ (6:40).
В тексте памятника удалось обнаружить архаичные формы эссива порядковых числительных энжимяс- ся < энжимянѣ ʻпервыйʼ, тойс- са < тойнѣ ʻвторойʼ, образованные от согласной основы, наряду с возводимой к гласной основе словоформе энжимязé- на . Аналогичные формы были отмечены и в первых дескриптивных описаниях собственно карельского и лив-виковского наречий [Genetz, 1880, S. 191; 1885, S. 148], что позволяет возвести их к древне-карельскомку языку.
Образование в тексте перевода падежей инессива (- шша / - шшя , - сса / - сся (после и )), адессива (- лла / - лля ) и абессива (- тта / - ття ) 12 практически не отличается от современного представительства данных категорий:
инессив : ... а вайнъ омалла ранналла, геймокунна шша и ома шша кои сса эй панна. ʻ...а только в своем крае, в роду и в своем доме не считают.ʼ (6:11);
адессив : И тямянъ-муŏзи лла я̈йи лля арвавтамизи лла паӷизи гѣй ля паӷинуă ... ʻИ такими многими загадками говорил им речь...ʼ (4:33);
абессив : И гюö iя̈нѣ ття олдыхъ. ʻИ они молчали (букв. без голоса были).ʼ (3:4).
Анализ полного набора рассматриваемых падежных словоформ из памятника, однако, позволил выявить сокращение геминаты показателя в позиции после дифтонга на й : пухтéй- са пухтыĕ ʻкровотечениеʼ, канжой- са < канжа ʻнародʼ; арвавтанной- ла < арвавтанда ʻза-гадкаʼ, вой- ла < вой ʻмаслоʼ, гуўлилой- ла < гуўли ʻгубаʼ; арвавтанной- та < арвавтанда ʻзагадкаʼ . Аналогичное явление характеризует словоизменительную систему личных и указательных местоимений всех собственно карельских диалектов, что свидетельствует о его архаичности. Материалы грамматик [Беляков, 1948, с. 46–49; Новак, 2020, с. 64–73], а также результаты опроса информантов позволяют говорить о сохранении описанного явления лишь в формах адессива местоимений, тогда как в остальных именах регулярно употребляются показатели, содержащие удвоенные согласные: Yks’i nain’e oli puhtei ssa . ʻОдна женщина была в кровотечении.ʼ, T’iešuaroi lla luokšittih vähävägöz’ie. ʻНа перекрестки бросали слабых.ʼ, Hiän tul’i kirjoi tta . ʻОн пришел без писем.ʼ (И1); Hyö ei lugiettu kirjoi ssa . ʻОни не читали в письмах.ʼ, Hyö ruvetah pagizomah toiz’i lla kiel’il’öi l’l’ä . ʻОни будут разговаривать на других языках.ʼ (И2); Hyö ollah kibuloi ssa . ʻОни в болезнях.ʼ, I šano hiän puu lla . ʻИ сказал он дере-ву.ʼ (И3); Hyö peeret’t’ih heid’ä kivil’öi l’l’ä . ʻОни били их камнями.ʼ, Hiän el’i jalloi tta . ʻОн жил без ног.ʼ (И4).
К особенностям именной словоизменительной системы перевода относится также употребление окончания иллатива -зé, -же в именах со стяженными основами на -гѣ-, -га-: тай-вага-же < тайвашъ ʻнебоʼ, вѣнѣгѣ-же < вѣнѣгъ ʻлодкаʼ, наряду с продуктивным на настоящий момент формантом -хъ: Ляккöмя лягизихъ кюлихъ и линнойхъ... ʻПойдем в ближние деревни и города...ʼ(1:38); А шихъ пяйвяхъ-нягъ, али кодвахъ-нягъ, ни кѣнъ эй тiйя... ʻА о том дне, или о часе, никто не знает...ʼ (13:32). Употребление архаичных показателей иллатива -ze, -že, восходящих к слабоступенному варианту праприбалтийско-финского показателя *-sen [Häkkinen, 2002, S. 81–82; Lehtinen, 2007, S. 124], наряду с вепсским и ижорским языками, отмечается исследователями и в ранних дескриптивных описаниях карельских говоров Карелии [Genetz, 1872, S. 19; 1880, S. 191; 1885, S. 149]. В грамматиках тверского карельского языка данные архаичные формы не представлены. В ходе работы экспедиции записать их также не удалось: Pane valmeheh rokkah šuolua. ʻДобавь в готовый суп соли.ʼ (И1); Kačah-tahuo taivahah hiän hiät r’is’s’it’t’i. ʻВзглянув на небо, он их перекрестил.ʼ (И2); Hyö otettih hanen omahpereheh. ‘Они взяли его в свою семью.’ (И3); Hian istuoci veneheh. ‘Он сел в лодку.’ (И4)
Сравнительный анализ именной словоизменительной системы памятника с современными тверскими карельскими говорами позволил выявить в них два инновационных падежа, не представленных в анализируемом переводе. Речь идет о падежах послеложного образования - комитативе и аппроксимативе .
В тексте памятника передача значения сопроводителя действия и совместимости произведена при помощи послеложной конструкции генитив + кера ‘с’, например, Шильмiё нъ - кера , и эття нгя? корв1ё нъ - кера , и эття кууле? ‘С глазами и не видите? С ушами и не слышите?’ (8:18); ...яйянъ вгя Нь - кера и шууренъ кавнегуо нъ - кера . ‘...с большою силою и большой славою.’ (13:26). К настоящему моменту данная конструкция, в результате утраты послелогом самостоятельного ударения, приведшего к слиянию показателя генитива и редуцированного послелога, переросла в самостоятельный падеж с окончанием - nke(na) : Mie tulin cikon- kena i vel’l’en kena . ‘Я пришел с сестрой и с братом.’ (И1); Mane Jumala nke ! ‘Иди с Богом!’ (И2); Mid’a tulit omi nke kibuloi nke ? ‘Что пришел со своими болезнями?’ (И3); Hian tuli pahoi nke vies’t’il’oi nke . ‘Он пришел с плохими новостями.’ (И4).
Выражение значения движения по направлению к чему-либо, кому-либо в языке памятника также передается при помощи послеложной конструкции генитив + луд / лудхъ ‘к’: ...и кайки рагвашъ ашшуттыхъ Гяне нъ - луд ... ‘...и весь народ шел к нему...’ (2:13), ...[исусъ лякси мгаре нъ - лудхъ... ‘...Иисус пошел к морю...’ (3:7). В речи информантов было выявлено использование падежа послеложного образования аппроксиматива с формантом - lluo / - llyo : Jumala l’aks’i gora lluoh . ‘Бог пошел к горе.’ (И1); Naroda ker’aydy oviloi lluo . ‘Народ собрался к дверям.’ (И3); Hian l’aks’ijarve l’l’yd . ‘Он отправился к морю.’ (И4). Аналогичная падежная форма характерна для ливвиковского и людиковского наречий карельского языка, в которых ее возникновение объясняется исследователями влиянием соседнего вепсского языка [Ковалева, Родионова, 2011, с. 87-88]. Результаты настоящего исследования, в свою очередь, указывают на то, что переход послеложных конструкций древнекарельского языка в падежные формы мог произойти в формирующихся наречиях и диалектах самостоятельно, в результате их внутреннего развития.
Следует отметить, что в современных говорах оба падежа соответствуют всем основным фонологическим и морфосинтаксическим критериям, предъявляемым к самостоятельным падежам: наличие передне- и заднерядного вариантов окончания, редукция и утрата им самостоятельного ударения, ассимиляция на месте прежней границы генитивной словоформы и послелога, соответствие формального и реального числа, согласование определения с опре-деляемым словом, повтор окончания при однородных членах предложения, открытость лексического выбора [Зайцева, 1981, с. 3 8-41; Кросс, 1983, с. 253].
Анализ именной словоизменительной системы памятника «Маркешта Святой Іôванӷели» в сравнении с современным козловским говором, позволил выявить целый ряд возводимых к древнекарельскому периоду функционирования карельского языка особенностей, указывающих на архаичность языка перевода:
-
1) отличная от современной система падежных окончаний партитива и генитива множественного числа;
-
2) наличие геминированных и негеминированных вариантов падежных окончаний инес-сива, адессива и абессива;
-
3) использование особого окончания иллатива;
-
4) продуктивность падежа инструктива.
Кроме того, в процессе исследования удалось определить инновационные падежные формы комитатива и аппроксиматива, сформировавшиеся в исследуемом ареале в недавнем прошлом.
Памятник тверского карельского языка «Маркешта Святой 1бвангели», наряду с переводом «Герранъ мiя“нъ Шюндю-руохтынанъ Святой 1бвангели Матв^йста», несомненно, должен быть использован лингвистами в качестве важнейшего звена в процессе изучения истории карельского языка и определения характеристик его древнего этапа развития. Дальнейший подробный анализ языка переводов может помочь также в решении целого ряда проблем диалектного членения языка.
Список литературы Именная морфология памятника тверской карельской письменности - перевода "Евангелия от Марка"
- Бубрих Д. В., Беляков А. А., Пунжина А. В. Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки: SUS, 1997. 10 с. + 209 с.
- Громова Л. Г. Особенности развития карельской письменности на толмачевском говоре тверского диалекта // Тверские карелы: история, язык, культура. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2011. С. 42-54.
- Зайцева Н. Г. Именное словоизменение в вепсском языке. Петрозаводск: Карелия, 1981. 218 с.
- Ковалева С. В., Родионова А. П. Традиционное и новое в лексике и грамматике карельского языка. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2011. 138 с.
- Кросс К. Граница падежной формы и наречия в инструктиве прибалтийско-финских языков // Сов. финно-угроведение. 1983. Т. 18. С. 253.
- Макаров Г. Н. Рукопись переводного памятника карельского языка начала прошлого века (Евангелие от Марка) // Прибалтийско-финское языкознание. 1971. № 5. C. 96-122.
- Новак И. П. Грамматика тверского карельского языка. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2020. 177 c.
- Новак И., Пенттонен М., Руусканен А., Сиилин Л. Карельский язык в грамматиках. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. 479 с.
- Основы финно-угорского языкознания: Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М.: Наука, 1975. 348 c.
- Пунжина А. В. Именные категории в калининских говорах карельского языка. Рукопись дис. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 1975. 175 с.
- Савельева Н. В. Неизвестные памятники лексикографии в «Цветнике» Прохора Коломнятина // Русская литература. 2019. № 3. C. 54-63.
- Тверские переводные памятники карельской письменности начала XIX века. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 295 c.
- Genetz A. Wepsän pohjoiset etujoukot. Kieletär, 1872, no. 4, S. 3-32, no. 5, S. 3-26. (на фин. яз.)
- Genetz A. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä. Helsinki, SKS, 1880, 247 p. (на фин. яз.)
- Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä. Helsinki, SKS, 1885, 194 p. (на фин. яз.)
- Häkkinen K. Suomen kielen historia. Turku, Turun yliopisto, 2002, 126 S. (на фин. яз.)
- Lehtinen Т. Kielen vuosituhannet. Helsinki, SKS, 2007, 308 S. (на фин. яз.)
- Leskinen H. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta. In: Karjala: historia, kansa, kulttuuri. Helsinki, SKS, 1998, S. 352-382. (на фин. яз.)
- Tuomi T. Itämurteiden loi-monikosta ja eräistä sekundaareista monikon merkeistä. In: Laatokan piiri. Helsinki, VAPK-kustannus, 1990, S. 190-200. (на фин. яз.)