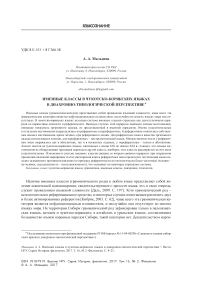Именные классы в чукотско-корякских языках в диахронно-типологической перспективе
Автор: Мальцева Алла Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Именные классы (грамматический род) представляют собой проявление языковой сложности, чаще всего эта грамматическая категория является нефункциональным излишеством, неслучайно во многих языках мира она отсутствует. В чукотско-корякских языках исходная система именных классов строилась как двухступенчатая иерархия по параметрам личности и референтности. Высшую ступень этой иерархии занимали личные местоимения, имеющие показатель эргативного падежа, не представленный в именной парадигме. Имена существительные и остальные местоимения подразделялись на референтные и нереферентные. К референтным относились собственные имена и местоимения, кроме личных, при референции к людям. Для референтных имен в качестве эргативного падежа использовался локатив, для нереферентных - инструментальный падеж. Множественное число у референтных имен выражалось как в абсолютиве, так и в косвенных падежах, у нереферентных - только в абсолютиве. Анализ текстов на чукотско-корякских языках, записанных с конца XIX по начало XXI в., показал, что личные местоимения не обнаруживают признаков перехода в другой класс и, наоборот, этот класс не расширяется за счет имен существительных. Изменения в системе именных классов связаны со вторым уровнем иерархии: при сохранении принципов падежной маркировки за счет расширения класса референтных имен происходит постепенная смена исходно заложенного противопоставления по признаку референтности на типологически более частотные (человек - не-человек, одушевленность - неодушевленность), что указывает на некоторое упрощение системы.
Чукотско-корякские языки, грамматика, именные классы, диахрония, типология
Короткий адрес: https://sciup.org/147219739
IDR: 147219739 | УДК: 811.551
Текст научной статьи Именные классы в чукотско-корякских языках в диахронно-типологической перспективе
Наличие именных классов (грамматического рода) в любом языке представляет собой явление лексической идиосинкразии, свидетельствующее о зрелости языка, что, в свою очередь, служит проявлением языковой сложности [Даль, 2009. С. 197]. Хотя грамматический род – вспомогательное референциальное средство, в некоторых случаях помогающее различить двух и более активированных референтов [Кибрик, 2003. С. 62], чаще всего эта грамматическая категория является нефункциональным излишеством, и неслучайно она отсутствует во многих языках мира. На территории Сибири грамматический род зафиксирован только в палеоазиатских языках, кетском и чукотско-корякских; в алтайских и уральских языках, составляющих большинство языков коренных народов Сибири, такой категории нет. Доказательством марги-
⃰ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00296 «Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе»).
Мальцева А. А. Именные классы в чукотско-корякских языках в диахронно-типологической перспективе // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 2: Филология. С. 9–25.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 2: Филология
нальности данной грамматической категории является также то, что она отсутствует в таких редуцированных и упрощенных языковых системах, как пиджины, и никогда не возникает в процессе креолизации пиджинов [Trudgill, 1999. Р. 137, 143].
Тем не менее именные классы в тех языках, где они есть, удивительно устойчивы, особенно грамматикализовавшиеся, имеющие словоизменительное выражение [Даль, 2009. С. 496– 497]. Изменения, которые происходят в системах именных классов, не разрушают эти системы полностью, а приводят к уменьшению их сложности путем замены типологически редкого основания противопоставления на типологически более частотные.
Семантические корреляции, на которых строится система именных классов в чукотско-корякских языках, укладываются в рамки иерархии одушевленности, или иерархии агентивности, впервые описанной М. Сильверстайном [Silverstein, 1976]. Данная иерархия была дополнена Р. Диксоном и переосмыслена в единую многофакторную цепь признаков [Dixon, 1979. Р. 85], в настоящее время известную в типологии как «расширенная иерархия одушевленности» [Croft, 2003. Р. 130]:
местоимения 1-го и 2-го лица > местоимение 3-го лица > собственные имена существительные > нарицательные имена существительные, обозначающие людей > прочие одушевленные нарицательные имена существительные > неодушевленные нарицательные имена существительные.
Чем выше вверх по иерархии, тем больше вероятность использования имени в агентивной функции, а также маркировки числовых противопоставлений, свойственных данному языку [Corbett, 2000. Р. 70]. Эта иерархия включает три отдельных, но взаимосвязанных параметра, каждый из которых формирует часть общей иерархии: личность (1-е и 2-е лица (локуторы, т. е. участники речевого акта) противопоставлены 3-му как не-локутору), референтность (местоимения стоят в иерархии выше, чем собственные имена, а они, в свою очередь, выше, чем нарицательные имена), одушевленность (люди > одушевленные > неодушевленные) [Croft, 2003. Р. 130].
Система именных классов в чукотско-корякских языках
В исходной системе именных классов в чукотско-корякских языках, видимо, выстраивалась двухступенчатая иерархия по параметрам личности и референтности. Высшую ступень этой иерархии занимали личные местоимения, имеющие особый показатель эргативного падежа -nan, не представленный в именной парадигме. Имена существительные и остальные местоимения подразделялись на референтные и нереферентные. К референтным относились прежде всего собственные имена, а также вопросительные, указательные и др. местоимения при референции к людям. Все остальные имена существительные, в том числе термины родства и другие имена, обозначающие людей, названия животных, наряду с именами, обозначающими неодушевленные предметы, составляли группу нереферентных имен. Для референтных имен в качестве эргативного падежа использовался локатив, а для нереферентных – инструментальный падеж.
Личные местоимения в чукотско-корякских языках на протяжении всей истории их изучения не обнаруживают признаков перехода в другой класс, и, наоборот, этот класс не расширяется за счет имен существительных. Изменения в системе именных классов связаны со вторым уровнем иерархии: наблюдается смена исходно заложенного противопоставления по признаку рефе-рентности на оппозицию по признаку «человек – не-человек», а в некоторых диалектах – по признаку «одушевленности – неодушевленности».
Система именных классов в чукотском языке
В первоначальных описаниях чукотского языка, выполненных В. Г. Богоразом [Bogoras, 1922; Богораз, 1934], имена делятся на собственные и нарицательные, даются отдельные на- блюдения, связанные со спецификой склонения собственных имен и выражением множественного числа.
В. Г. Богораз указывал, что при склонении собственных имен и некоторых слов, относящихся к лицам, в частности указательных и вопросительных местоимений, в дательном, творительном и местном (притяжательном) падежах «употребляется один общий суффикс -inæ I -ena , - nre I -na » [Bogoras, 1922. Р 701, 703; Богораз, 1934. С. 20]. О множественном числе сообщалось, что оно выражается в абсолютном и, реже, сопроводительном падежах, а в косвенных падежах либо форма множественного числа заменяется формой единственного числа соответствующего падежа, либо используются инфиксы, выражающие множественность [Богораз, 1934. С. 19]. В работе 1922 г. эти особые морфемы для выражения множественного числа у собственных имен были представлены более детально. Указывалось, что и в абсолютном падеже собственные имена имеют специфический показатель множественного числа -(ɪ)nti . Форма собственных имен во множественном числе обозначает группу лиц, которая принадлежит человеку, чье имя обозначено в основе, и в которую входит он сам [Bogoras, 1922. Р. 696]. Множественное число собственных имен в косвенных падежах образуется путем присоединения к основе имени «послелога» (в оригинале статьи использован термин post-position ), восходящего к основе местоимения -(ɪ)rg ‘они’ [Ibid. P. 706].
Выделение двух классов имен в работах В. Г. Богораза связано с тем, что в чукотских текстах, собранных им в конце XIX – начале XX в., нарицательные имена существительные, в том числе обозначающие людей, действительно склоняются только как нарицательные имена.
В грамматике чукотского языка П. Я. Скорика имена делятся на три склонения. Ко второму склонению относятся вопросительные, указательные и определительные и заместительные местоимения при обозначении людей и небольшая группа имен существительных: собственные имена людей, клички животных, прозвища сказочных персонажей из животного мира и внутрисемейные названия ближайших старших родственников, как правило, при непосредственном обращении. Подчеркивается, что именно для обозначения ближайших старших родственников имеются как внутрисемейные, используемые для обращения, так и общие термины родства ( ate ‘папа’ – ətɬəɣən ‘отец’; əmmemə ‘мама’ – ətɬa ‘мать’; epə ‘дедушка’ – mirɣən ‘дед’; epeqej ‘бабушка’ – ŋewmirɣən ‘бабка’; jeɬʔo ‘дядюшка’ – ənjiw ‘дядя’; ətčajqaj ‘тетушка’ – ətčaj ‘тетя’; ənʔə ‘старший братец’ – əneeɬʔən ‘старший брат’). Второе слово из пары относится к первому склонению вместе с остальными нарицательными существительными. У слов второго склонения единственное и множественное числа различаются во всех падежах, у слов первого склонения – только в номинативе [1961. С. 152, 177, 191].
В грамматике П. Я. Скорика впервые для чукотского языка говорится о промежуточном классе имен третьего склонения, который составляют нарицательные существительные, обозначающие людей, в том числе термины родства, кроме тех, которые относятся ко второму склонению. Чаще всего они склоняются по 1-му склонению, но в случае необходимости выразить множественное число в косвенном падеже говорящий может употребить соответствующую форму из 2-го склонения [Там же. С. 195]. Отличием 3-го склонения также является особая форма множественного числа одного из комитативных падежей, в которой есть показатель числа ɣa- – -(ə) r (ə)-ma [Там же. С. 201].
Существование в чукотском языке имен с нестабильным типом склонения отмечается и другими исследователями чукотского языка.
Так, Э. Спенсер, вслед за П. Я. Скориком, высказывает наблюдение о чукотских нарицательных именах, обозначающих человека, например, tumɣətum ‘друг’: такие имена могут оформляться как большинство нарицательных имен в единственном числе и как собственные имена во множественном числе [Spencer, 1999. С. 108].
М. Данн выделял у имен в говоре телкепских чукчей два класса, связанных с иерархией одушевленности: в высокой степени одушевленные (high animate nouns) и остальные (common nouns). Первая группа имен ограничена собственными именами, терминами родства, применяемыми для обращения (мама, папа и др.), фольклорными персонажами и указательными местоимениями при референции к людям. В плане склонения эти имена отличаются от осталь- ных тем, что они маркируют число не только в абсолютиве, но и в других косвенных падежах, кроме экватива.
При этом М. Данн указывает на то, что только собственные имена и вопросительное / неопределенное местоимение mik- ‘кто? кто-то’ всегда склоняются по указанному правилу склонения. Названия говорящих животных, являющихся протагонистами мифологических сказок, также склоняются по образцу собственных имен, так как воспринимаются как эквиваленты собственных имен. Термины родства и указательные местоимения могут склоняться двумя разными способами [Dunn, 1999. Р. 64–65, 103–104]. М. Данн высказывает мнение, что термины родства склоняются так же, как и собственные имена, когда используются по отношению к родственникам рассказчика, а не к родственникам другого человека [Ibid. P. 103].
По нашим наблюдениям, в оригинальных текстах, особенно фольклорных, существительные промежуточного класса, оформленные по 2-му склонению, встречаются редко. Так, в двух больших сборниках сказок, записанных в середине XX в. (Ятгыргын, 1963; Беликов, 1979), встретилось лишь четыре таких случая, и только во множественном числе.
-
(1) чук., Ф50
А’ачека ныкитэ, винвэ ытлыгырык, нинэтэйкык’ин янръатвык’ай. (Ятгыргын, 1963. С. 58) aʔaček=a nəki=te winw=e ətɬəɣ=ə=rək юноша=INSTR ночь=INSTR тайный=ADV.instr отец=E=LOC.pl n=ine=tejk=ə=qin janr=ʔatv=ə=qaj
IPF=AP=делать=E=3sgS отдельный=лодка=E=DIM
‘Юноша ночью, втайне от родителей, делает челнок.’
-
(2) чук., Ф50
Аны эккэрык ылвылю нылгэнмык’эн. (Беликов, 1979. С. 148)
anə ekke=rək əɬwəɬu n=ə=ɬɣe=nm=ə=qen ну сын=LOC.pl дикий олень.ABS.sg IPF=E=действительно=убить=E=3sgP
‘Сыновья дикого оленя всегда ну и добывали же.’
-
(3) чук., Ф50
[ Люур к’олетылё тан’ымыльо гакватчаленат маравынвэты ] , ытръэч нэмэ ытлён гапэлят-лен ярак н’эвыск’этырык рээн. (Беликов, 1979. С. 222)
ətrʔeč neme ətɬon ɣa=peɬa=t=len jara=k ŋewəsqet=ə=rək только снова он.ABS.sg PP=оставить=VBLZ=3sgS дом=LOC женщина=E=LOC.pl reen вместе с
‘[Вдруг однажды все ушли воевать], только он снова остался дома с женщинами.’
-
(4) чук., Ф50
Ытлыгэ, ытльата ынкъам ытленъюрык гылёо нылгык’ин ытлён. (Беликов, 1979. С. 182) ətɬəɣ=e ətɬʔa=ta ənkʔam ətɬenju=rək ɣəɬo=o отец=INSTR мать=INSTR и младший брат=LOC.pl тосковать=EQU n=ə=lɣ=ə=qin ətɬon
‘Отец, мать и младшие братья тосковали о нем.’
В последнем из приведенных примеров показателен ряд существительных ‒ терминов родства в функции агенса. Два первых существительных в единственном числе оформлены инструментальным падежом, по парадигме 1-го склонения, а третье существительное во множественном числе – локативом множественного числа, по парадигме 2-го склонения.
Появление промежуточного класса имен в чукотском языке, вероятно, связано с процессом выравнивания системы. Дело в том, что проявляющееся в 1-м и 2-м склонениях противо- поставление собственных и нарицательных имен не соответствовало важнейшей корреляции «человек – не-человек», заложенной в другой части системы. П. Я. Скорик отмечал, что в чукотском языке все имена (номинативные, вопросительные, указательные, определительные и заместительные) 1 делятся на две группы «в зависимости от того, обозначают ли они человека или другие предметы. Существительные, обозначающие человека, отвечают на вопрос мэ-ӈин? ‘кто?’ <…> Существительные, обозначающие все остальные предметы, кроме человека, независимо от того, неодушевленные они или одушевленные, отвечают на вопрос ръэнут ‘что-кто?’» [1961. С. 138‒139].
Таким образом, через формирование 3-го, факультативного, склонения в чукотском языке происходит распространение корреляции «человек – не-человек» на именное склонение.
Система именных классов в корякском языке
Сходная ситуация наблюдается и в корякском языке, но в описании корякского языка она представлена иначе.
В системе словоизменения существительных отражены категория человека / не-человека, определенности / неопределенности, числа, падежа, лица.
Существительные, обозначающие не-человека, склоняются по 1-му склонению. Существительные, обозначающие определенное, указанное лицо (имена собственные людей и индивидуализирующие слова типа аppа ‘папа’), склоняются только по 2-му склонению. Существительные, обозначающие человека без указания на определенность названного лица, склоняются по 1-му склонению [Жукова, 1972. С. 95].
Категория определенности / неопределенности сопряжена в корякском языке с различением человек / нечеловек (лицо / нелицо). Различение определенности / неопределенности грамматически существенно в корякском языке только для существительных, обозначающих человека [Там же. С. 97–98]. Существительные, обозначающие определенное лицо, маркируются суффигированным артиклем. Отсутствие суффигированного артикля в словоформе, обозначающей человека, означает, что лицо, о котором идет речь, не является определенным, указанным (прежде всего принимается во внимание осведомленность слушателя).
Индивидуализирующие существительные – собственные имена людей и существительные, обозначающие единичное лицо ( wawa ‘мама’, но не həlla ‘мать’, аppа ‘папа’, но не enjpič ‘отец’), всегда являются определенными в силу своей семантики и, соответственно, всегда имеют показатель определенности. Все остальные существительные, обозначающие человека, в связной речи употребляются или как определенные, или как неопределенные [Там же. С. 98].
Использование терминологической пары «определенность – неопределенность» для описания противопоставления в сфере именных классов корякского языка несколько затемняет картину, так как отсылает к представлению о категории детерминации, связанной с тема-ре-матическим членением предложения. В данном случае дикурсивные характеристики референтов в выборе типа склонения существительных роли не играют. Существительные относятся к тому или иному классу, и эта характеристика им свойственна в системе, а не приобретается в тексте. Другое дело, что в системе имеется потенциальная возможность выразить число референтов путем использования парадигмы склонения, свойственной референтным именам.
Как и в чукотском языке конца XIX – начала XX в., в корякских фольклорных текстах на каменском диалекте, записанных В. Г. Богоразом в начале XX в., границы именных классов не нарушаются. Показателями уникальности – совокупности оформляются только собственные имена и несколько наименований ближайших старших родственников, используемые при обращении ( аppа ‘дедушка’, tata ‘папа’, mama ‘мама’).
-
(5) кор., кам.; Ф00
Appaʹnak neneneḷaʹmɪk. (Bogoras-Tan, 1917. Р. 29)
appa=na=k n=enene=la=mək дедушка=SG=LOC LowA=появиться=PL=1nsgP
‘Дедушка появился перед нами.’
-
(6) кор., кам.; Ф00
Gŭʹmma mamaʹnak teteiʹtɪñ toiʹpŭk. (Bogoras-Tan, 1917. Р. 25)
ɣəmmə mama=na=k tete=jtəŋ t=ojp=ə=k я.ABS.sg мама=SG=LOC игла=LAT 1sgS=прицепиться=E=1sgS.PFV
‘Я прицепился у мамы к игле.’
Все прочие термины родства в качестве агенса встречаются только в форме инструментального падежа, не различающей число референтов, несмотря на то, что контекст не всегда позволяет однозначно определить число референтов.
В первом из приводимых ниже примеров число агенса не может быть определено в рамках данного предложения, только в более широком контексте, поскольку оно не выражено в согласовательных лично-числовых показателях глагольной формы, в этом случае причастия прошедшего времени, которое при переходных глаголах согласуется только с пациенсом.
-
(7) кор., кам.; Ф00
Na'witqata gewnivo'len, « Qrye'm-^'en » . (Bogoras-Tan, 1917. Р. 80)
ŋawətqa=ta ɣ=ew=ŋəvo=len qəjem-ewən женщина=INSTR PP=сказать=INCH=3sgP ни за что-part
‘Женщина/ы сказала/и (ему): «Не надо (делать этого)».’
В следующем примере число агенса мы определяем исходя из общих знаний о социальных отношениях: не могут более одного мужчины одновременно жениться на одной и той же женщине.
-
(8) кор., кам.; Ф00
Kmiʹña g̣amaʹtaḷen. (Bogoras-Tan, 1917. Р. 80)
kəmiŋ=a ɣa=mata=len ребенок=INSTR PP=присвоить=3sgP
‘Сын женился (на ней).’
В последнем примере число агенса выражено в глагольной форме и однозначно прочитывается как множественное.
-
(9) кор., кам.; Ф00
Attaεʹyol-yaεʹmka natuḷaʹtɪn. (Bogoras-Tan, 1917. Р. 40)
əttəhjol=ya=mk=a na=tulhat=ə=n на берегу=дом=NMLZ.группа=INSTR LowA=украсть=E=3sgP
‘Прибрежные люди украли (его).’
В текстах на каменском диалекте, записанных А. Н. Жуковой в середине XX в., наблюдается незначительное отклонение от описанного стандарта. Обнаружен один пример употребления слова kamiyan ‘ребенок, сын’ в форме дательного падежа множественного числа 2-го склонения. В единственном числе во всех случаях использования данного слова и других существительных, обозначающих людей, они встречаются только формах 1-го склонения.
-
(10) кор., кам., Ф50
Əнан нючельӄəн куйəлӈəӈəн кəмэӈəйəкəӈ, тит əно панэначг’энаӈ йаӈвоӈ йунэтəк. (Жукова, 1988. Текст 29, предл. 172)
ə=nan njuče=ljq=ə=n ku=jəl=ŋ=ə=nin тот=ERG тундра=ON=E=ABS.sg PRES=дать=PRES=E=3sgA+3P kəmeŋ=ə=jək=ə=ŋ tit ənno panena=čhenaŋ ja=ŋvo=ŋ ребенок=E=PL=E=DAT чтобы тот.ABS.sg прежний=ADV POT=начать=PFV jun.et=ə=k жить=E=CV.loc
‘Он землю отдал сыну (с семьей), чтобы (самому) по-прежнему жить.’
В современном корякском языке использование форм 2-го склонения в именах, обозначающих людей, но не относящихся к референтным, связано именно с необходимостью выражения единственного или множественного числа референтов формой имени в таких синтаксических контекстах, где это значение другим способом не передается. Выявлено несколько типов таких синтаксических контекстов.
Использование показателя совокупности необходимо в конструкциях с послелогами и ад-позитивными наречиями, которые управляют формой локатива опорного имени. При обозначении единственного числа в той же конструкции суффикс уникальности не используется.
-
(11) кор., ГС
Омакаӈ кымиӈыйик аӈаӈъялай, мылав’лай… (Народовластие. 11.10.2014. № 82)
omakaŋ kəmiŋ=ə=jək aŋaŋ.ja=la=j məlaw=la=j вместе ребенок=E=LOC.pl петь=PL=3sgS.PFV танцевать=PL=3sgS.PFV
‘Вместе с детьми пели, танцевали.’
-
(12) кор., ГС
Веран йичг’амйитумгыт…вэтатгыг’э эньпичик омакаӈ. (Народовластие. 20.02.2016. № 15.
С. 6)
vera=n jičhamji=tumɣ=ə=t vet.at=ɣəhe enjpiči=k omakaŋ pers=POSS.sg брат=друг=E=ABS.du работать=3duS.PFV отец=LOC вместе
‘Верины братья работали вместе с отцом.’
Использование 2-го склонения в большей степени характерно для дательного падежа адресата, как единственного, так и множественного числа, не имеющего кореферентного дейктиче-ского показателя в глагольной форме.
-
(13) кор., ГС
…айманаӈ то эналлачг’ыйикыӈ Камчатский крайик юнэтылг’э накалинав’ мыкыӈ 1500 пыӈлов’ то в’аӈлагыйӈо. (Народовластие. 09.07.2014. № 55. С. 4)
ajma=na=ŋ to ena=l=la=čh=ə=jək=ə=ŋ kamčatskij pers 1500
‘Губернатору и членам правительства Камчатского края жители написали более 1500 вопросов и просьб.’
-
(14) кор., ГС
… кымэӈыйикыӈ мыткунгыйивэнӈынэв’ мучгинэв’ кимитг’ав’ … (Народовластие. 23.08.2014.
№ 68. С. 7)
‘Детям мы показываем наши одежды.’
По изолированным примерам может создаться впечатление, что речь действительно идет об уникальных референтах (избранный губернатор, члены правительства, какие-то особенные дети), поэтому эти существительные оформлены показателями уникальности – совокупности.
Однако в следующем предложении того же текста о детях и в очередном тексте о губернаторе эти же слова в функции агенса склоняются как нереферентные, когда согласуются с предикатом, лично-числовой показатель которого показывает число действующих лиц. В первом из приводимых ниже примеров в предикате выражено множественное число агенса, во втором примере – единственное.
-
(15) кор., ГС
[ Ӈынвыӄ мыткопанэнатвыӈволаӈ ӄоякъет. ] Тит кымиӈа лиги нэнг’ылӈики ӄояӈа… (Народовластие. 23.08.2014. № 68. С. 7)
tit kəmiŋ=a liɣi ne=nh=ə=lŋ=iki чтобы ребенок=INSTR действительно LowA=CON=E=считать=IPFV qoja=ŋa олень=ABS.sg
‘[Много рассказываем об олене/ях.] Чтобы дети знали оленя…’
-
(16) кор., ГС
Аймата тэйкынин йитг’атвылӈыгыйӈын омакаӈ юнэтылг’ын Паланык (Народовластие. 02.08.2014. № 62. С. 6)
ajma=ta tejk=ə=nin jith.at=vəlŋ=ə=ɣəjŋ=ə=n вождь=INSTR делать=E=3sgA+3P встретить=REC=E=NMLZ.abstr=E=ABS.sg omakaŋ jun.et=ə=lh=ə=k 2 palan=ə=k вместе жить=E=ATR=E=LOC pers=E=LOC
‘Губернатор провел встречу в жителями Паланы.’
Отличие от чукотского языка наблюдается в том, что при склонении имен, относящихся к промежуточному классу, могут использоваться как формы единственного, так и формы множественного числа 2-го склонения, а в чукотском языке зафиксирована только форма множественного числа.
Интересные изменения происходят в склонении русских собственных имен и фамилий. А. Н. Жукова в грамматике корякского языка писала, что для заимствованных многочленных имен нет единого способа оформления. По правилам показатели уникальности – совокупности должны присоединяться ко всем компонентам: имени, отчеству и фамилии, но в речи встречаются случаи употребления этих показателей только на одном компоненте конструкции (на фамилии в случае трехкомпонентности или на отчестве в случае двухкомпонентности) [1972. С. 102‒103].
Наши наблюдения показывают, что ситуация отличается от описанной в грамматике. В переводных текстах 1980-х гг. русские фамилии всегда склонялись по 2-му склонению, а нерусские могли оформляться показателями 1-го склонения.
-
(17) кор., чавч., ХПС
Ынан тыттэль гаймо гэлӈылинэв’ йылӈык калив’, калилг’у Гоголя то Тургеневынак . (Ульянова, 1989. С. 15) ə=nan təttelj ɣajm=o ɣe=lŋ=ə=line=w jəlŋ=ə=k
он=ERG очень приятный=EQU PP=считать=E=3nsgP=PL читать=E=CV.loc kali=w kali=lh=u gogolj=a to turgenev=ə=na=k узор=ABS.pl писать=ATR=ABS.pl pers=INSTR и pers=E=SG=LOC
‘Он очень любил читать книги, написанные Гоголем и Тургеневым.’
В современных газетных публикациях заметна тенденция по русскому образцу оставлять без изменения иноязычные женские фамилии и склонять иноязычные мужские фамилии.
-
(18) кор., чавч., ГС
Айгывэ мынгытӄавык ымычвилю йиг’илгык янот ныг’ынг’элнэв’ ӈыяӄмыллыӈэн мынгыто ӈыяӄ гэвэгыйӈо Александранаӈ Трифоновнанаӈ Уркачан. (Народовластие.11.10.2014. № 82. С. 6) ajɣəve mənɣət=qav=ə=k əməčvilju=jihilɣ=ə=k janot
вчера 10=NUM.ord=ə=LOC октябрь=месяц=LOC впереди nəh=ə=nhel=ne=w ŋijaq=məlləŋen mənɣət=o ŋəjaq
ɣeve=ɣəjŋ=o aleksandra=na=ŋ trifonovna=na=ŋ urkačan прожить год=NMLZ.abstr=ABS.pl pers=SG=DAT pers=SG=DAT pers
‘Вчера, 10 октября, исполнилось бы 74 года Александре Трифоновне Уркачан.’
-
(19) кор., чавч., ГС
Эрихынак Кастенынак йингыйивэннин кина В’эемлэкъйит. (Народовластие. 11.10.2014. № 82. С. 6)
erix=ə=na=k kasten=ə=na=k jə.nɣəjiv.en=nin kina wejemle=kjit pers=E=SG=LOC pers=E=SG=LOC показать=3sgS+3P кино.ABS.sg pers=DEL
‘Эрих Кастен показал кино о [поселке] Лесная.’
Таким образом, в корякском языке расширение сферы употребления форм 2-го склонения связано с необходимостью выражения числа референтов-людей в некоторых синтаксических контекстах. При этом используются формы как единственного, так и множественного числа.
Система именных классов в алюторском языке
Для алюторского языка описано три класса имен, которые обслуживаются двумя наборами окончаний. Показатели 1-го склонения присоединяются к именам, обозначающим не-челове-ка. Эти имена различают числа только в номинативе (абсолютиве), но не в косвенных падежах. Показатели 2-го склонения присоединяются к именам собственным и терминам родства, обозначающим старших родственников. У этих имен числа различаются не только в абсолю-тиве (единственное, двойственное и множественное), но и в косвенных падежах (единственное и множественное). Прочие существительные, обозначающие человека, могут склоняться как по 1-му, так и по 2-му склонению [Кибрик и др., 2000. С. 250].
Ю. Нагаяма, вслед за А. Н. Жуковой, связывает наличие этих трех групп с категорией определенности – неопределенности: существительные, обозначающие неодушевленные предметы, являются неопределенными и склоняются по 1-му склонению, существительные второй груп- пы (имена собственные) всегда являются определенными и склоняются по 2-му склонению, а существительные третьей группы, обозначающие людей и животных, могут быть как определенными, так и неопределенными в зависимости от контекста [Нагаяма, 2003. С. 52].
Наши наблюдения показывают, что, как и в корякском языке, с тема-рематическим членением предложения и категорией детерминации употребление показателей 2-го склонения в алюторском языке не связано.
Обязательно оформляются по 2-му склонению любые имена собственные, даже те нарицательные имена существительные, которые используются в качестве имени собственного окказионально. Не только существительные, обозначающие людей, но также и существительные, обозначающие животных и даже природные объекты и неодушевленные предметы, являющиеся олицетворенными персонажами сказок, действующие и говорящие, как люди, получают в формах косвенных падежей числовые показатели. Другими словами, переход в группу референтных имен в алюторском языке потенциально возможен для любого существительного.
-
(20) ал., с.-в., кич; ФС
Ав’инак муру нангыйулавламык. (Притчина, 2005)
awi=na=k mur=u na=n=ɣəjul=av=la=mək краб=SG=LOC мы=ABS.pl LowA=CAUS=знающий=VBLZ=PL=1nsgP
‘Краб нас научил.’
-
(21) ал., с.-в., култ.; Ф50
[ То гапкавылӄивлин кэӈын тыпгатык ] , мри В’айамынак утта гаткыплылӄивлин татып-ганьӈылъын. (Ивтакрат, 1955. Тетрадь 12, с. 2)
mri wajam=ə=na=k ut=ta ɣa=tkəpl=ə=lqiv=lin потому что река=E=SG=LOC дерево=INSTR PP=ударить=E=INCHDUR=3sgP ta=təpɣ.anj=ŋ=ə=lʔ=ə=n
‘[И не смог медведь взбираться], потому что Река бревном ударял его, [когда он] пытался взбираться.’
-
(22) ал., с.-в., ан.; Ф50
…ынӈин Усвиткууттынак тытталь ныктыа тулвыткынина. (Уварова, 1991)
ənŋ=in u=svi=tku=utt=ə=na=k təttalj этот=REL.sg дерево=отрезать=ITER=дерево=E=SG=LOC очень n=ə=kt=ə=ʔa t=ulv=ə=tk=ə=nina
QUAL=E=крепкий=E=ADV CAUS=держаться=E=IPFV=3sgA+3nsgP
‘Это бревно очень крепко их держало (букв.: Этот бревно очень крепко их держал).’ 3
Такие же показатели получают качественные прилагательные, если они используются как имена собственные, хотя в атрибутивной функции прилагательные в алюторском языке не склоняются.
-
(23) ал., ХПС
Нəг’умӄинак то Нəтаӈӄиӄинак ғағиталаӈ, [ ав’əн тəмӈивəлъу ӄурав’в’и семавлаткəт ] … (Кил-палин, 2010. С. 206)
n=ə=ʕum=qi(n)=na=k to n=ə=taŋqi=qi(n)=na=k
QUAL=E=толстый=3sgS=SG=LOC и QUAL=E=худой=3sgS = SG=LOC
ɣa=ɣita=laŋ
PP=смотреть=3plP
‘Толстый и Худой посмотрели, потерявшиеся олени уже приближаются.’
В устных текстах на северо-восточном диалекте алюторского языка, записанных исследователями в последние годы, оформление нарицательных существительных, обозначающих людей, показателями 2-го склонения встречается крайне редко. Так, в сборнике текстов, записанных Ю. Нагаяма [2015], такая форма встретилась всего один раз.
-
(24) ал., с.-в., ан.; ФС
Атун ынпыӈавтык нивыткы : [« Амӈут в’ыъа мытивылӄивлаткыт, кытвол ник, ынгаму йымӈу алӈыка… »] (Нагаяма, 2015. 16.28, 16.29) atun ənp=ə=ŋav= tək n=iv=ə=tkə
‘И так старушки говорят: [«Всегда и часто говорим, что не надо бояться червей»].’
Чаще других оформляются по 2-му склонению существительные, обозначающие людей, в форме дательного падежа множественного числа.
-
(25) ал., с.-в., выв.; ФС
q-əp.at-ɣə-n unjunju-tək əpa-ŋa. (Кибрик и др., 2000. Текст 10, предл. 25)
q=əp=at=ɣ=ə=n unjunju=tək əpa=ŋa
‘Cвари детям суп.’
То, что в настоящее время основное противопоставление в сфере имени в алюторском языке смещается с референтности в сторону корреляции «человек – не-человек», подтверждается примерами из оригинальных и переводных текстов, в которых русские имена существительные – названия профессий, должностей и званий, т. е. нереферентные, но обозначающие людей, морфологически осваиваются в соответствующей референтным именам форме.
Началось это, вероятно, в послевоенный период, поскольку в текстах С. Н. Стебницкого 1928 г. такие примеры не зафиксированы, они встречаются начиная с записей И. С. Вдовина 1955 г.
-
(26) ал., с.-в., ветв.; Ф30
Мри прапорсикынак гойулаллин wинна. (Сахаров, 1955. Тетрадь 9, с. 7)
mri praporsik=ə=na=k ɣ=ojul=al=lin winnə потому что прапорщик=E=SG=LOC PP=знающий=VBLZ=3sgP дорога.ABS.sg
‘Потому что прапорщик выучил дорогу.’
-
(27) ал., с.-в.; ХПС
…əнки ғамалкалылын, маӈкəт итəлъəн ӈанынваратын юнатғəрӈəн художникəнак лəг’улӄивəт-кəнын. (Килпалин, 2010. С. 207)
ən=ki ɣa=mal=kali=lin maŋkət it=ə=lʔ=ə=n тот=LOC PP=хороший=писать=3sgP как быть=E=ATR=E=ABS.sg
ŋan=in=varat=in jun.at=ɣərŋ=ə=n тот=REL.sg=народ=POSS.sg жить=NMLZ.abstr=E=ABS.sg xudožnik=ə=na=k ləʕu=lqiv=ə=tk=ə=nin художник=E=SG=LOC увидеть=INCH-DUR=E=IPFV=E=3sgA+3sgP
‘Там хорошо изображено, как видит художник жизнь этого народа.’
Несколько иная ситуация наблюдается в южных диалектах алюторского языка. Еще А. Н. Жукова в грамматике корякского языка отмечала, что карагинцы, алюторцы и паланцы связывают категорию определенности / неопределенности не с категорией «человек – не-чело- век», а с одушевленностью – неодушевленностью [1972. С. 98]. Это наблюдение подтверждается для южных диалектов алюторского языка, паланского и карагинского, в собственно алюторском диалекте изменения не зашли настолько далеко.
В текстах на южных диалектах все существительные, обозначающие людей, а также существительные, обозначающие животных, независимо от того, олицетворяются они или нет, склоняются по 2-му склонению.
-
(28) ал., ю.-з., пал.; Ф50
То тунин пилгкэйӈынэк унюнюв’ гмнинэ. (Жукова, 1980. Текст 12, предл. 146)
to tu=nin pilɣ=ə=kejŋ=ə=ne=k unjunju=w и съесть=3sgA+3P горло=E=медведь=E=SG=LOC ребенок=ABS.pl
‘И съел голодный медведь моих детей.’
Это свидетельствует о смене исконной корреляции по референтности противопоставлением одушевленных и неодушевленных существительных по русскому образцу. Этот процесс в карагинском диалекте возник еще в начале XX в., поскольку подобные примеры встречаются в архивных документах 1930-х – 1950-х гг., причем не в устных рассказах, а в письменном тексте, в котором обычно отсутствуют спонтанные неграмматичные формы. Следующий пример взят из автобиографического рассказа карагинца М. Обухова, написанного им в письме, адресованном С. Н. Стебницкому.
(29) ал., ю.-в., кар.; Ф00
…oraw pьhpьnak inivi: matka hajmo lьŋьtkьn taŋavŋь… (Обухов, 1932. С. 92)
|
oraw pəxp=ə=na=k |
in=iv=i |
matka |
|
|
потом мешок с жиром=E=SG=LOC |
1sgP=сказать=3sgA |
QUEST |
|
|
xajm=o |
ləŋ=ə=tkən |
ta=ŋav=ŋi |
|
|
приятный=EQU |
считать=E=IPFV |
VBLZ.constr=женщина=VBLZ.constr |
|
‘Потом священник (букв.: мешок с жиром) спросил меня: «Желаешь невесту?»’
Одушевленность – неодушевленность является настолько типологически частотным параметром, на котором строятся системы грамматического рода, что подобное движение вниз по иерархии агентивности от более редкого к более распространенному параметру (референт-ность > человек ‒ не-человек > одушевленность – неодушевленность) могло бы произойти не только в условиях языковых контактов, но и при изолированном развитии языка. О таком случае сообщает, например, Г. Корбетт, описывая развитие системы грамматического рода в языке лунда, относящемся к группе банту, где класс «человек» расширился за счет включения в него одушевленных существительных, не обозначающих человека, и фактически стал классом одушевленных существительных [Corbett, 1991. С. 314].
Выводы
Именные классы (грамматический род) представляют собой проявление языковой сложности, свидетельствующее о длительной истории развития языка. Хотя грамматический род может использоваться как вспомогательное средство для разрешения референциальных конфликтов, чаще всего эта грамматическая категория является нефункциональным излишеством, поэтому во многих языках мира она отсутствует. На территории Сибири грамматический род зафиксирован только в палеоазиатских языках, кетском и чукотско-корякских.
Исходная система именных классов в чукотско-корякских языках строилась как двухступенчатая иерархия по параметрам личности и референтности. Высшую ступень этой иерархии занимали личные местоимения, имеющие показатель эргативного падежа, не представленный в именной парадигме. Имена существительные и остальные местоимения подразделялись на референтные и нереферентные. К референтным относились собственные имена, вопросительные, указательные и др. местоимения при референции к людям. Все остальные имена существительные, в том числе обозначающие людей, названия животных, наряду с именами, обозначающими неодушевленные предметы, составляли группу нереферентных имен. Для референтных имен в качестве эргативного падежа использовался локатив, для нереферентных – инструментальный падеж. Множественное число у референтных имен выражалось как в абсо-лютиве, так и в косвенных падежах, у нереферентных – только в абсолютиве.
Анализ текстов на чукотско-корякских языках, записанных с конца XIX по начало XXI в., показал, что личные местоимения не обнаруживают признаков перехода в другой класс, и, наоборот, этот класс не расширяется за счет имен существительных. Изменения в системе именных классов связаны со вторым уровнем иерархии: наблюдается постепенная смена исходно заложенного противопоставления по признаку референтности на оппозиции, находящиеся на иерархии агентивности ниже, чем корреляция по референтности: по признаку «человек – не-человек», а в южных диалектах алюторского языка – по признаку одушевленности – неодушевленности. Эти параметры являются семантически более простыми и встречаются в языках мира чаще, поэтому можно говорить о тенденции системы именных классов в чукотско-корякских языках к упрощению.
Изменение в системе именных классов в чукотско-корякских языках происходит путем формирования промежуточного класса нарицательных имен, обозначающих людей (в южных диалектах алюторского языка – класса одушевленных нарицательных имен). Такие имена существительные могут склоняться по парадигме референтных имен в случае необходимости в выражении числовых противопоставлений. Это особенно необходимо в синтаксических контекстах, где число референтов не выражено предикатом или другими элементами в составе именной группы.
Имена промежуточного класса (3-го склонения) в чукотском языке и в оригинальных текстах на алюторском языке могут принимать только показатели множественного числа, в переводных текстах на алюторском языке встречается употребление как единственного, так и множественного числа, в корякском языке имена промежуточного класса активно используются в формах обоих чисел.
Список литературы Именные классы в чукотско-корякских языках в диахронно-типологической перспективе
- Богораз В. Г. Луораветланский (чукотский) язык // Языки и письменность народов Севера /Под ред. Е. А. Крейновича. М.; Л.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1934. Ч. 3: Языки и письменность палеоазиатских народов. С. 5-46.
- Даль Э. Возникновение и сохранение языковой сложности: Моногр. М.: URSS, 2009. 560 c.
- Жукова А. Н. Грамматика корякского языка: Моногр. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. 323 с.
- Кибрик А. А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе: Дис. … д-ра филол. наук. М., 2003. 90 c.
- Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Муравьева И. А. Язык и фольклор алюторцев: Коллект. моногр. М.: Наследие, 2000. 460 c.
- Нагаяма Ю. Очерк грамматики алюторского языка: Моногр. Kyoto, 2003. 314 c. Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка: В 2 ч. М; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Ч. 1: Фонетика и морфология именных частей речи. 448 с.
- Bogoras W. Chukchi // Boas F. Handbook of American Indian Languages. Washington, 1922. Pt 2. Р. 631-903.
- Corbett G. Gender. Cambridge Univ. Press, 1991. 363 p. Corbett G. Number. Cambridge Univ. Press, 2000. 358 p.
- Croft W. Typology and Universals. 2nd ed. Cambridge Univ. Press, 2003. 368 p.
- Croft W. Typology // The Handbook of Linguistics / Eds. M. Aronoff, J. Rees-Miller. Blackwell Publ., 2003. P. 337-368.
- Dixon R. Ergativity // Language 55. 1979. P. 59-138.
- Dunn M. A Grammar of Chukchi: A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of Australian National University. 1999. 208 p.
- Silverstein M. Hierarchy of Features and Ergativity // Grammatical Categories in Australian Languages / Ed. by R. M. W. Dixon. New Jersey: Humanities Press, 1976. P. 112-171.
- Spencer A. Chukchee and Polysynthesis // Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию Александра Евгеньевича Кибрика. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 106-113.
- Trudgill P. Language contact and the function of linguistic gender // Poznań studies in contemporary linguistics. 1999. Vol. 35. P. 133-152.