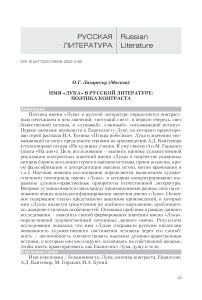Имя "Лука" в русской литературе: поэтика контраста
Автор: Лазареску О.Г.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Поэтика имени «Лука» в русской литературе определяется контрастным сочетанием в нем значений: «несущий свет», в первую очередь, свет божественной истины, и «лукавый», «лживый», «искажающий истину». Первое значение возводится к Евангелисту Луке, на которого ориентирован герой рассказа И.А. Бунина «Птицы небесные». Лука в значении «искажающий истину» представлен героями из произведений А.Д. Кантемира (стихотворная сатира «На хулящих учения. К уму своему») и М. Горького (пьеса «На дне»). Цель исследования - выявить приемы художественной реализации контрастных значений имени «Лука» в творчестве указанных авторов (прием апелляции героев к высшим истинам, прием подмены, прием фальсификации и дискредитации высших истин, мотив врачевания и т.д.). Научная новизна исследования определяется выявлением художественного потенциала имени «Лука», в котором концентрированно выражены духовно-нравственные приоритеты отечественной литературы. Впервые устанавливается связь между произведениями разных эпох на основании общих подходов в формировании значения имени «Лука». Основное содержание статьи представлено анализом произведений, в которых имя «Лука» является средоточием их идейного наполнения, проблематики, жанрово-стилевых особенностей. Основная проблема в рамках данного исследования - выяснить способ формирования значения имени «Лука», определивший художественный потенциал данного имени. Результаты исследования показали, что имя «Лука» открывало русским писателям возможность художественного постижения человека через его способность / неспособность соответствовать высоким духовно-нравственным истинам, к которым они апеллируют, оплачивать их собственной жизнью, чтобы иметь право врачевать, как Евангелист Лука, душу и тело.
Имя персонажа / безымянность, лука, поэтика контраста, евангелие, а.д. кантемир, и.а. бунин, м. горький
Короткий адрес: https://sciup.org/149143525
IDR: 149143525 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-65
Текст научной статьи Имя "Лука" в русской литературе: поэтика контраста
Name of a character / namelessness; Luke; poetics of contrast; Gospel; A.D. Kantemir; M. Gorky; I.A. Bunin.
Для русских писателей разных эпох имя «Лука» оказалось плодотворным благодаря контрастному сочетанию в нем значений, аккумулирующих в себе духовно-нравственную, философскую, этическую проблематику. Лука (от лат. Lucis) — 1) свет, освещение, сияние; 2) блеск, сверкание; 3) ясность, очевидность, широкая гласность, известность; 4) слава, украшение, цвет, светоч; 5) помощь, утешение, спасение; 6) дневной (солнечный) [Дворецкий 1976, 606], то есть, «несущий свет», в первую очередь, свет божественной истины. Источником противоположного значения имени «Лука» — «лукавый», «лживый», «искажающий истину» — стал ряд слов русского языка, омонимичных латинскому имени «Лука». В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» приводит слова, производные от слова «лука» (прямое значение – «изгибъ, погибъ, кривизна, излучина; заворотъ рѣки, дуга»), среди которых «лукавить», то есть «хитрить замышляя, дѣйствовать лживо, притворно, коварно, скрытно и злоумышленно; кривить душею, идти скрытными происками»; «лукавый», то есть «хитрый и умышляющiй, коварный, скрытный и злой, обманчивый и опасный, криводушный, притворчивый, двуличный и злонамѣренный»; «лукавство», то есть «коварство, ухищренья, злонамѣренное двуличiе, об-манъ»; «лукавомудрый», то есть «лжемудрый», «употребляющiй умъ свой во зло, на лукавыя дѣла», а также церковнославянское слово «лукавство» как «кривизна души» [Даль 1881, 272].
Имя персонажа литературного произведения – это «концентрат» его идейного содержания, это скрученная в «спираль» авторская интенция, наконец, это та «ниточка», которая ведет читателя, дает ему ориентир в постижении глубинных смыслов произведения. В русской литературе имя персонажа как область поэтики не ограничивается именем как таковым. Важным ресурсом художественности является и безымянность героев – как способ возведения персонажа, его судьбы, до уровня общечеловеческого, того, как «бывает у людей». Это и способ контрастного изображения различных групп персонажей – носителей имени и безымянных, и т.д. [Ла-зареску 2013]. Сама шкала «имя / безымянность» в русской литературе открывает возможности для художественных поисков, для «битвы» над насущными вопросами русской жизни и бытия в целом.
Пожалуй, одним из самых горячих участников этой «дискуссии» о человеке и мире – в аспекте имени – можно назвать героя пьесы М. Горького «На дне» (1902), обозначенного в списке действующих лиц как «Актер». Для спившегося Актера его собственная гибель – утрата таланта, разрушенное здоровье, потеря памяти – ощущается, в первую очередь, как утрата имени. Писатель наделяет героя сценическим именем – Сверчков-За-волжский, но и это имя (не говоря уже о его природном имени) никто из окружающих его сейчас людей не знает: «Нет у меня здесь имени… Понимаешь ли ты, как это обидно – потерять имя? Даже собаки имеют клички… Без имени нет человека…». А факт смерти Анны он определяет в своих, важных именно для него, понятиях: «Я иду… скажу… потеряла имя!..» [Горький 1977, 321]. Через имя пытается пробиться к понимаю жизни и другой обитатель ночлежки — Пепел: «<…> оттого я вор, что другим именем никто, никогда не догадался назвать меня…» [Горький 1977, 329]. Нищий бродяга, странник Лука, желая утешить сожителей, находит для каждого из них слова, которые должны «душу вылечить». Мотив врачевания актуализируется в пьесе через имя героя, ассоциативно связанное с евангелистом Лукой, который, как известно, тоже был врачом (Кол., гл. 4, ст. 14); [Лука 2016, 553]. В отношении Актера это врачевание в прямом смысле – как уход в клинику для излечения от алкоголизма. При этом Лука у Горького, как условный «врач», понимает, что стало источником болезни
Актера – попранное человеческое достоинство: «Ты… лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! <…> Признали, видишь, что пьяница – тоже человек…». Сам Актер называет свою болезнь «утратой веры»: «Веры у меня не было… Кончен я…» [Горький 1977, 313]. Вдохновленный высокой истиной «от Луки» о том, что «человек – все может… лишь бы захотел…», «вылечишься… и начнешь жить снова… хорошо…», дорисовавший в своем воображении лечебницу с мраморными полами, светом и чистотой как путь для своего возрождения, Актер на пике веры в свои силы в финале пьесы «удавился на пустыре». Смысловой эквивалент такого финала можно видеть в истории, рассказанной Лукой в третьем акте – о «праведной земле», вера в которую поддерживала дух, вселяла надежду бедняку на то, что есть такая земля, где живут «особые люди» — «друг дружку они уважают, друг дружке – завсяко-просто – помогают… и все у них славно-хорошо!» [Горький 1977, 327]. Когда бедняк попросил ссыльного ученого, «с книгами и планами», показать дорогу в «праведную землю», а ученый уверил его в том, что такой земли нет, тот воспринял это известие как «грабеж», грабеж веры — покушение, более страшное, чем покушение на жизнь: «А после того пошел домой и — удавился!..» [Горький 1977, 328].
«Вера» — одно из самых востребованных слов в монологах и диалогах героев этой пьесы, обозначающих ценности духовного порядка. Чаще других это слово произносит Лука. Для каждого из обитателей ночлежки он находит то основание веры, которое связано с опытом его жизни, его страданий и падений. Для Актера это излечение «организма», которое вернет ему возможность заниматься любимым делом, читать стихи, декламировать. Для Анны — райская жизнь после смерти – «спокой», «без тревоги». Вору Пеплу Лука дает жизненный ориентир, который поможет ему снова «уважать себя». Обрисовал он и горизонт счастья для Наташи, которая не верит «никаким словам» Пепла о его любви к ней, о его жажде «жить иначе»: «Хлеба нету, – лебеду едят <…> иди за него, девонька, иди!» [Горький 1977, 329]. Насте тоже дает опору – верит в то, что у нее была «настоящая любовь».
Лука Горького очевидно руководствуется не злым умыслом, он очевидно не коварен. Напротив, он делает все возможное, чтобы предотвратить убийство Пеплом хозяина ночлежки. Так же, как когда-то он предотвратил убийство себя беглыми с поселенья мужиками – уберег их от тюрьмы, от Сибири (третий акт). Душу каждого из обитателей ночлежки Лука в той или иной степени затронул своей способностью «пожалеть» человека, вызвав у одних раздражение и даже злость («Старик – шарлатан», «Правды он… не любил…»), у других чувство добра, тепла и опоры, или, как сказал карточный шулер Сатин, Лука всех «проквасил» своими словами [Горький 1977, 339]. Высказывая нравственные максимы, он ссылается на Евангелие, на притчу о сеятеле (Лк, гл. 8), подразумевая невозможность «возделывания» душ, не готовых воспринимать эти максимы. Именно здесь происходит фальсификация – евангельские истины он толкует в соответствии со своим «врачебным» принципом: «не всегда правдой душу вылечишь…» [Горький 1977, 327]. Отсюда – неназванный город, в котором есть спасительная клиника для Актера, отсюда — уверения Анны в том,
О.Г. Лазареску (Москва) | Имя «Лука» в русской литературе: поэтика контраста что на том свете ей назначена не мука, что господь примет ее ласково и что смерть – «как мать малым детям» [Горький 1977, 314]. Отсюда – стремление устроить семейную жизнь Наташи и Пепла, потому что Наташе больше «идти некуда», а Пеплу кто-то должен постоянно напоминать, что он достоин уважения, потому что он «хороший парень». Отсюда и подыгрывание Насте, через детализацию внешности возлюбленного – «в лаковых сапогах», в том, что этот возлюбленный действительно был и по-настоящему ее любил. И хотя Бубнов отмечает, что Лука врет «без всякой пользы для себя» [Горький 1977, 325], без «корысти», но он ничем и не платит за свои слова. Его истины не оплачены его жизнью, но имеют драматичные последствия для других. Замечательно, что брошенный Лукой упрек в адрес хозяина ночлежки Костылева в том, что его душа не воспринимает истины («земля неудобная для посева»), оборачивается тем, что именно Костылев своей жизнью, хотя и помимо своей воли, оплачивает представление о том, что есть настоящий странник, в христианском смысле этого слова: «Ежели он настояще-то… странен… он — молчит! А то — так говорит, что никому не понятно… (то есть, говорит притчами. – О.Л.) И он – ничего не желает, ни во что не вмешивается, людей зря не мутит… Как люди живут – не его дело… Он должен преследовать праведную жизнь… должен жить в лесах… в трущобах… невидимо! И никому не мешать, никого не осуждать… а за всех — молиться… за все мирские грехи..!» [Горький 1977, 331]. Устами одного из самых больших грешников в пьесе выносится диагноз самому «врачующему», который можно передать значением, приводимым в словаре Даля – «кривизна души». «Кривизна» — не злоумышление, не коварство и даже не хитрость, а в случае с Лукой Горького это фальсификация высшего знания о мире, того знания, которое дано в притчах евангельских, на которые ссылается герой. Лука лишь «взбаламутил болотную стоячую воду», он «любит не людей, а то, что таится за людьми, любит загадки жизни, фокусы приспособлений, фантастические секты, причудливые комбинации существований», «кроме горя и жертвы, у Горького “На дне” Лука ничего за собой и не оставил...» [Анненский 1979, 74, 81].
Таким образом, имя «Лука» у Горького строится на скрещении противоположных значений – Лука как «несущий свет» евангельской истины, апеллирующий к этой истине, и как тот, кто пытается возделывать души, «лечить» их сомнительными «рецептами», напоминающими больше житейскую мудрость, нежели евангельскую истину, не неся при этом никакого долга перед «больными». Если экстраполировать определение пьесы «На дне» как «попытки своеобразной фокусировки» Горьким «своей художественной системы», основанной на принципе «всепроникающей диалогичности и ценностного полицентризма», породившем множественность и альтернативность трактовок произведения [Удодов 2022, 91] — экстраполировать на уровень отдельного персонажа, а именно, на Луку, то можно сказать, что он как носитель своего имени стал фокусом философского и духовно-нравственного содержания произведения. «Поляризация» значений в имени героя во многом обуславливает остающуюся неизменной «поляризацию точек зрения и подходов к этому произведению в работах, затрагивающих проблемы его образно-смыслового и структурно-жанрового своеобразия» [Удодов 2022, 90].
Пьеса Горького имеет жанровое обозначение – «Картины. Четыре акта». Принцип «картинности» здесь реализуется не только и не столько в бытоописательном и нравоописательном планах, сколько в сущностном плане – как понимание себя и мира, как способ позиционирования себя в мире. Это, прежде всего, воображаемые картины возможной «лучшей жизни», как те, что Лука рисует для Пепла, если он по своей воле уедет в Сибирь, или картина Страшного суда для Анны, в которой Лука от имени Господа определяет Анну в райские чертоги, потому что она жила «очень трудно». Это и картины воображаемой Настей «настоящей любви». Есть и случай фарсовой реализации принципа «картинности» — в начале четвертого акта, когда Настя «голая, на четвереньках», готова «ползти на край света» из ночлежки, на что Барон откликается: «Это будет картинно, леди… если на четвереньках» [Горький 1977, 338]. Можно сказать, что жанрово-стилевые особенности пьесы Горького «На дне» во многом определяются выбором имени Лука, который появляется в ночлежке в середине первого акта, внезапно исчезает в третьем акте, а то, что он «посеял» в душах героев, становится основным содержанием четвертого акта.
Подобный принцип «картинности», в соединении с именем «Лука», обнаруживает себя в сатире А.Д. Кантемира «На хулящих учения. К уму своему» (1729), построенной как своеобразная «картинная галерея» — галерея сатирических портретов в виде самопрезентующих монологов персонажей. «Портреты» представляют различные социальные типы постпетровского времени, в которых было много противников реформ, осуществленных Петром I, в первую очередь, противников образования и науки – это и священнический слой, и провинциальные помещики, и мещанство, и псевдопросвещенное городское дворянство. Представитель каждого социального типа, презентуя себя в своем монологе, вменяет «наукам» ту вину, которая связана с нарушением привычного образа жизни, с тревогами в сфере гражданского спокойствия — науки «гражданству вредным весьма безумством» [Кантемир 1956, 59] стать могут. Один из таких персонажей — Лука, очевидно, представитель мещанского слоя, хуля «науки», апеллирует к ценности высшего порядка — «содружеству людей», то есть к тому, что делает людей людьми, а не дикарями: «Наука содружество людей разрушает; / Люди мы к сообществу божия тварь стали, / Не в нашу пользу одну смысла дар прияли. / Что же пользы иному, когда я запруся / В чулан..?», — говорит он. Признавая божественную волю в наделении человека даром «смысла», то есть образом и подобием Божиим, он подменяет высшую ценность – «содружество людей» — явлениями вполне ощутимого свойства: это веселая «ватага» друзей, упивающихся вином. Этих друзей он противопоставляет «мертвым друзьям» — книгам / перу, бумаге, чернилам. Называя вино «даром божественным», он подразумевает не то, без чего невозможен сакральный акт, — причастие, а то, что дает «много провору» — поддерживает разговор в компании, отгоняет «тяжкие мысли», «Скудость знает облегчать, слабых ободряет, / Жесто- ких мягчит сердца, угрюмость отводит…». В сущности, он апеллирует к тем началам, которые примерно через 170 лет лягут в основу проповедей Луки Горького, рисующего страждущим картины облегчения, отдохновения от «скудости», «тяжких мыслей», всевозможной жестокости, то есть дающего людям утешительную ложь. Да и вино в пьесе Горького тоже сыграет свою роль в конфликте между высоким предназначением человека и наличным бытием.
Жанр стихотворной сатиры, построенной по законам риторического искусства, позволил Кантемиру в сжатой форме дать противопоставление такой позиции в персонифицированном образе Ума. Если каждый из невежд в сатире является носителем имени, в том числе, говорящего, то антагонист невежд Ум – безымянный. Он молчалив (вспомним критерии «настоящности» христианина в монологе Костылева у Горького), не выходит на «сцену», не презентует себя, не проповедует, сидит «в незнатности», его житье – «тяжко». Но он «весел», он веселит себя «тайно», и источником этого веселья является знание, полученное от занятий наукой. Науки, знание в данном случае выступают эквивалентом вина как способа причащения к божественной тайне. Поэтика контраста в этом произведении реализует себя, прежде всего, в контексте имени «Лука».
Немаловажную роль в раскрытии художественного потенциала имени «Лука» у Кантемира играет мотив утраченного здоровья, противопоставленный мотиву брызжущего физическим здоровьем человека. Сытый, румяный и пьяный Лука у Кантемира не просто подменяет высокие ценности различными видами облегчения тяжелой жизни, но прямо их дискредитирует констатацией очевидного факта – ученый этот тот, кто «крушится над книгой», «повреждает очи». Его мнимая забота о физическом и психическом здоровье человека, о социальной гармонии (вино «дружит» людей) воспринимается как пародия на «врачующего» душу и тело [Лаза-реску 2010, 198–199].
Как видно, имя «Лука» у Кантемира строится по принципу последовательной нивелировки – подмены, дискредитации им значения, которым освещен авторитетный источник и авторитетный носитель этого имени в русской культуре – евангелист Лука.
В рассказе И.А. Бунина «Птицы небесные» (1909) обнаруживаем более сложное сочетание значений, связанных с именем «Лука». В центре повествования – встреча студента-медика Воронова с нищим бродягой по имени Лука, который преподает будущему врачу нравственный урок, оплачивая высказанные им максимы своей жизнью. Встретив в морозный январский день на мосту близ своего поместья нищего и больного человека, с «затяжным», «мучительным» кашлем [Бунин 1956, 311], будущий врач поступает по «медицинскому протоколу» своего времени. Быстро оценив условия жизни больного — «обужа-одежа плоха», «без валенок», он прописывает ему «рецепт»: «<…> купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь — полегчает» [Бунин 1956, 312–313]. Воронов не ограничивается врачебным долгом, предлагая нищему переночевать у себя в имении, предлагая ему и деньги.
Воронову не в чем себя упрекнуть. Он сделал все, что мог, чтобы спасти человека. Тогда почему после расставания он был раздражен и весь вечер «ходил из угла в угол по залу», говоря «иногда вслух» — «Дикарь!», а ночью «спал мало» [Бунин 1956, 315]? Не потому ли, что его благодеяния столкнулись с жизненной позицией, в основании которой евангельские заповеди, и к ним апеллирует нищий, отказывающийся ночевать в имении и направляющийся в мороз и гулкий ветер в Знаменское: «Беден только бес, на нем креста нет», и замерзнуть нищий не боится — живет «как птицы небесные» (Лк, гл. 12), которые, как и он, не думают ни о рае, ни о хлебе насущном [Бунин 1956, 314].
Обнаруженное утром в снегу на знаменской дороге тело – высшая плата за произнесенное слово, за «проповедь» христианской истины. Оценка Вороновым произошедшего с нищим словом «дикарь» показывает недоступность на данный момент будущему врачу всей глубины христианского учения, в отличие от нищего, вверившего свою жизнь Богу. Это подчеркивается использованием глагола прошедшего времени «звали», когда Воронов спрашивает имя нищего, а тот отвечает: «Звать-то? Звали Лукой…». Герой уже отделил себя от земных нужд, от заботы о своем здоровье, он не придает никакого значения селитре и не выказывает большой радости от предложенного ему «полтинничка». Он не бросает вызов смерти – «<…> поминать меня, бог даст, не придется… Дойду», но всегда к ней готов, она «<…> найдет — везде. Да и помирать-то не десять раз, а всего один» [Бунин 1956, 314].
Социальный статус Воронова – студент-медик, а не уже состоявшийся врач, что оставляет возможность герою пройти свой путь духовного становления. Он врач, но пока без той составляющей, которая подразумевается именем «Лука» из Священного писания. Подтверждением тому может служить неопубликованный и не включенный автором в собрание сочинений 1927 г. вариант финала рассказа, где студент приходит на погребение бродяги и не решается взглянут на него: «Пошел только к выносу, к церкви», вспоминал «высокий костыль, черные глаза, прядь длинных волос». И ему захотелось написать рассказ о замерзающих и «озаглавить зло и резко: “Дикари”». Здесь же студент задается вопросом: «Но дикари ли? <…> Разве это выразишь?» [Бунин 1956, 436–437]. На погребении он вновь услышал слова, которые слышал от нищего – о смерти, о том, что «двум смертям не бывать, одной не миновать» — теперь уже от церковного сторожа, произнесенные тем «бойко» и «восторженно». Посторонний человек, безымянный сторож вносит свою толику в понимание Вороновым глубины вопроса о «дикарях». Отказ от финальной сцены в окончательной авторской редакции переносит акцент с умозрительных поисков истины – «дикари / не дикари» — на перспективу долгого пути, личного проживания тех сентенций, которые высказывались им в разговорах с нищим и с самим собой, на перспективу стать врачом в библейском смысле этого слова. В студенте Воронове воплотилась авторская тяга к человеку «пути», перед которым встают сложнейшие вопросы бытия, требующие личного выбора. «“Чувство пути” органич- но духовному состоянию Бунина-человека», и оно обнаруживает себя не только в реальных путешествиях, но и в «неустанных духовных поисках» героев: «Бунинский человек идет своим духовным путем, цель которого в постижении изначальной сути реально существующего мира» [Дякина 2022, 32, 33].
Символическая топика и топонимика рассказа – раздваивающаяся дорога, «одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви», по которой «упорно побрел» нищий, село Знаменское, в которое он направляется, наконец, астрономическая, звездная топика рассказа (Близнецы, Волопас, Арктур, Марс, Венера) — выводят простой разговор двух случайно встретившихся людей в область поисков смысла жизни и своего предназначения. Дополнительная детализация этих поисков дана в соотнесенности студента-медика с ночным, темным небом – всю роковую ночь он видит в небе звезды и планеты как «страшные», широко расставленные, «кровавые глаза». А с нищим Лукой соотнесено солнечное начало, он даже смерть сравнивает с солнцем по силе своего действия на людей: «Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее не взглянешь». В финале рассказа солнечно-золотистый свет восхода, чуть алеющая заря все-таки открываются студенту как свет, оставленный уже замерзшим Лукой [Бунин 1956, 314–315].
Можно сказать, что имя «Лука» у Бунина раздвоено, его значение как «врачующего» распределено между двумя героями – один врачует тело, другой – душу; один – в начале пути, он обладает позитивным знанием, но испытывает искреннее удивление и даже страх перед нищим бродягой, который очевидно знает о мире больше образованного будущего медика; другой – в конце пути, он постиг смысл бытия и его жизнь оправдывает его имя, своей жизнью он платит за свои убеждения. Поэтика контраста здесь основана не на противопоставлении сущего должному, не на фальсификации и подменах истины, а на взаимном притяжении и отталкивании героев. Не случайно Воронов называет Луку «чудаком», он так и остался для него загадкой. Студент-медик Воронов и нищий бродяга Лука всматриваются друг в друга, пытаясь познать истину и свое предназначение. Студент, погруженный в чтение Юнга, действительно, не видит в рассуждениях Луки «никакой системы», а образ нищего «близок скорее буддистским представлениям, чем христианским (отсутствие желаний чего-либо, отношение ко всему, что может манить – даже раю – как к иллюзии)» [Василевская 2020, 213]. Однако базовая ценностная установка, своеобразная «точка конвергенции», представленная евангельским образом «птиц небесных» и закрепленная именем героя, позволяет относить внесистемные черты образа Луки к приемам усиления интереса студента к человеку, нарушившему его умозрительные метафизические занятия, вызвавшему мучительный, до бессонницы, внутренний поиск. Ведь ему, будущему врачу, предстоит изучать человека как самую трудную, вселенскую загадку.
Высокое, библейское, значение имени «Лука» в русской литературе оттеняется его шутливой реализацией, как, например, в одноактной пье- се А.П. Чехова «Медведь» (1888). Шутливый модус не отменяет глубины проникновения в человеческую природу с ее склонностью к разыгрыванию различных социальных ролей, прихотливостью, примитивным прагматизмом, неожиданными изменениями настроений, обескураженностью от собственных поступков. Пьеса начинается и завершается мизансценой с лакеем вдовы-помещицы Поповой Лукой. В начале действия Лука призывает свою барыню оставить затворнический образ жизни после года траура по мужу, не сидеть дома словно «в монастыре»: «Нехорошо, барыня… Губите вы себя только…». На что получает прямой и однозначный ответ: «<…> не выйду никогда… Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле, я погребла себя в четырех стенах… Мы оба умерли» [Чехов 1986, 291]. В финале Лука видит «целующуюся парочку» — свою барыню и влюбившегося в нее помещика-соседа Смирнова. Внутри этой «рамки» — стремительные изменения ролей, настроений, нарушенные ожидания в поведении. И это относится не только к главным героям, но и к самому Луке. В начале пьесы он пытается врачевать душу своей барыни, апеллируя к «божьей воле», здравому смыслу и «чести»: «Погоревали – и будет, надо и честь знать», для убедительности приводит личный пример: «У меня тоже в свое время старуха померла… Что ж? Погоревал, поплакал с месяц, и будет с нее…». В финале – Лука готов гнать напористого соседа от своей барыни, даже после того, как тот пообещал сделать из него «салат» [Чехов 1986, 301]. Здравомыслие и жизненный опыт Луки перечеркиваются немощью физической и душевной, он единственный в пьесе, кто вот-вот умрет от страха, он «хватается за сердце» («Ох дурно, дурно! Дух захватило!»), «падает в кресло», просит воды, «становится на колени», «плачет» [Чехов 1986, 302–303]. Но, переживший сердечный приступ, обессилевший, Лука в финале идет «с топором» и в компании с садовником, кучером и рабочими на «медведя», «монстра», чтобы спасти свою барыню, которая, впрочем, в этом уже не нуждается.
Выводы: предпринятый анализ показывает устойчивую связь в произведениях русских писателей между именем «Лука» и духовно-нравственными основами жизни, сформулированными в Евангелии. Эта связь проявляется в способности или не способности человека соответствовать тем высоким истинам, которые он проповедует, в его способности или неспособности оплачивать их собственной жизнью, а не просто соблазнять ими страждущих. Существенным для понимания значения имени оказывается мотив врачевания, восходящий к евангелисту Луке как врачевателю тел и душ человеческих. В произведениях русских авторов врачевание чаще актуально не для «больного», а для самого врачующего, берущего на себя без всяких оснований эту миссию – «врач! Исцели Самого Себя» (Лк, гл. 4). Этот общий подход в формировании значения имени «Лука» в произведениях русских писателей разных эпох позволяет считать, что в этом имени сконцентрированы духовно-нравственные приоритеты отечественной литературы.
Список литературы Имя "Лука" в русской литературе: поэтика контраста
- Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979. 679 с.
- Бунин И.А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. М.: Правда, 1956. 455 с.
- Василевская Ю.Л. Хаос и память: категории памяти и вечности в прозе И.А. Бунина // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2020. № 3(66). С. 208–215.
- Горький М. Рассказы. Пьесы. Мать: Библиотека классики. М.: Художественная литература, 1977. 670 с.
- Даль В. Толковый словарь живаго великорускаго языка. Т. 2. СПб., М.: Типография М.О. Вольфа, 1881. 779 с.
- Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. 1096 с.
- Дякина А.А. «Путь» в жизненной и творческой философии Ивана Бунина // Филоlogos. 2022. № 2(53). С. 30–39.
- Кантемир А. Собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. 544 с. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Лазареску О.Г. Образование – книга – чтение в ценностном мире русской стихотворной сатиры // Образование. Книга. Чтение: текст и формирование читательской культуры в современной образовательной среде. Сборник трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. М.: Русская школа, 2010. С. 196–202.
- Лазареску О.Г. «Что в имени тебе моем?..»: безымянность героев как смыслоорганизующая категория в русской литературе и фольклоре // Наука и школа. 2013. № 5. С. 74–77.
- Лука // Православная энциклопедия. Т. XLI. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2016. С. 552–585.
- Удодов А.Б. Пьеса М. Горького «На дне» как эстетическая реальность: 120 лет в динамике общественного восприятия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2022. № 1. С. 89–91.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Т. 11: Пьесы. 1878–1888. М.: Наука, 1986. 435 с.