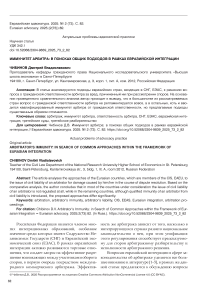Иммунитет арбитра: в поисках общих подходов в рамках евразийской интеграции
Автор: Чибинов Д.В.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются подходы евразийских стран, входящих в СНГ, ЕЭАС, к решению вопроса о гражданской ответственности арбитра за вред, причиненный им при рассмотрении споров. На основании проведенного сравнительного анализа автор приходит к выводу, что в большинстве из рассматриваемых стран вопрос о гражданcкой ответственности арбитра не регламентируется вовсе, а в остальных, хоть и вводится квалифицированный иммунитет арбитра от гражданской ответственности, но предлагаемые подходы существенным образом отличаются.
Арбитраж, иммунитет арбитра, ответственность арбитра, СНГ, ЕЭАС, евразийская интеграция, третейские суды, третейское разбирательство
Короткий адрес: https://sciup.org/140309893
IDR: 140309893 | УДК: 342.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_82
Текст научной статьи Иммунитет арбитра: в поисках общих подходов в рамках евразийской интеграции
Российская Федерация является членом многих интеграционных образований, особенное значение среди которых имеют Содружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕЭАС). В рамках евразийской интеграции активно развиваются торговые отношения, что создает запрос на эффективное разрешение возникающих между участниками оборота споров, в первую очередь посредством международного коммерческого арбитража. Эффектив- ность же арбитража зависит от того, насколько в интегрирующихся странах развито национальное законодательство о нем, при этом унификация этого регулирования способствует предсказуемому для сторон арбитражному разбирательству и исполнимости арбитражного решения.
Вопросам евразийской интеграции в сфере законодательства об арбитраже уделяется все большее внимание в литературе [1–5], в рамках же данной статьи предлагаются к обсуждению вопросы
поиска общих подходов по одному из его ключевых направлений – проблематике гражданской ответственности арбитра за нарушения, допущенные при рассмотрении споров. Интегрирующиеся страны не должны обладать кардинально разными подходами к решению вопроса об ответственности арбитра – это создает неопределенность как для арбитра, так и для участвующих в споре сторон относительно правовых последствий совершения арбитром неправомерных действий.
Так, на общеевразийском уровне существенное значение имеет постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2016 года № 45-6 «О модельном законе «О третейских судах и третейском разбирательстве» [6], которое призвано создать типовой закон о третейском разбирательстве для последующей его имплементации в законодательство всех стран СНГ. Вышеуказанный модельный закон не содержит никакого регулирования вопросов ответственности арбитра, оставив этот пробел для восполнения с помощью общих положений законодательств стран – участниц СНГ о гражданской ответственности. Не упоминаются вопросы ответственности арбитра и в комментариях к нему [34].
Такой же подход, не предполагающий наличия специального регулирования вопросов гражданской ответственности арбитра, отражен в законодательствах:
– Республики Беларусь, а именно в законе Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 301-З «О третейских судах» [7], в законе Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» [8];
– Кыргызской Республики, а именно в законе Кыргызской Республики от 30 июля 2002 года № 135 «О третейских судах в Кыргызской Республике» [9];
– Республики Таджикистан, а именно в законе Республики Таджикистан от 05 января 2008 года № 344 «О третейских судах» [10], в законе Республики Таджикистан от 18 марта 2015 года № 1183 «О международном коммерческом арбитраже» [11];
– Республики Армения, а именно в законе Республики Армения от 22 января 2007 года № ЗР-55 «О коммерческом арбитраже» [12] (с данным документом удалось ознакомиться только в той редакции, что представлена книге А.И. Зайцева от 2017 года [5], то есть как минимум без учета изменений, произведенных в 2018 и 2022 годах).
В законодательстве Республики Казахстан формально присутствует норма, касающаяся от- ветственности арбитров, а именно статья 58 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 488-V «Об арбитраже», предусматривающая, что нарушение законодательства Республики Казахстан об арбитраже влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан [13]. Однако, как отмечает А. Калдыбаев, «нет специальной ответственности для арбитров […] в других законах Республики Казахстан» [14]. В связи с этим следует прийти к выводу, что в законодательстве Республики Казахстан также отсутствует решение этого вопроса.
В дополнение к вышеуказанному также отметим, что такое же решение об отсутствии необходимости специального регулирования ответственности арбитра заложено в законодательстве Туркменистана – бывшей республики СССР, не вошедшей в СНГ, но сохраняющей с ним тесные отношения, а именно в Законе Туркменистана от 16 августа 2014 года № 101-V «О международном коммерческом арбитраже» [19].
Отсутствие законодательного регулирования вопроса об ответственности арбитра создает правовую неопределенность, которая должна разрешаться в пользу возможности привлечения арбитра к гражданской ответственности на общих основаниях, предусматривающих право любой стороны, чьи права нарушены, требовать взыскания причиненных убытков. Такие общие правила о возмещении убытков закреплены в статье 14 ГК Республики Беларусь [15], статье 14 ГК Кыргызской Республики [16], статье 14 ГК Республики Таджикистан [17], статье 17 ГК Республики Армения [18]. Аналогичное решение усматривается и в статье 14 ГК Туркменистана [20].
Применительно к законодательству Республики Казахстан А. Калдыбаев также отмечает, что в отсутствие особых правил закон «вовсе не исключает возможности привлечения к ответственности по общим правилам действующего гражданского законодательства, например, применительно и в порядке статьи 917 ГК. Данная норма предусматривает возмещение имущественного вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) лица, причинившего вред при наличии вины» [14].
Однако такой подход не соответствует международной практике, согласно которой большинство правопорядков исходят из того, что арбитр должен иметь иммунитет от ответственности: дискуссия ведется в отношении того, должен ли такой иммунитет быть абсолютным (т. е. исключать полностью возможность привлечения к ответственности) или квалифицированным (т. е.
ограничивать ответственность арбитра строго определенными случаями) [21, с. 520–521]. Введение иммунитета арбитров в первую очередь предопределено необходимостью обеспечения их независимости при разрешении споров, так как «в противном случае они опасались бы выносить беспристрастное решение» [22], оценивая риск предъявления исков от недовольных участников к ним лично.
Однако некоторые евразийские правопоряд-ки, следуя международным подходам, ввели правило об иммунитете арбитра от гражданской ответственности. Во всех рассматриваемых странах предусмотрен квалифицированный иммунитет арбитра, т. е. его ответственность допускается в ограниченных случаях, но ее условия сильно отличаются.
Среди рассматриваемых правопорядков самый жесткий подход к гражданской ответственности арбитра закреплен в законодательстве Российской Федерации. Согласно статье 51 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» арбитр не несет гражданско-правовой ответственности перед сторонами арбитража в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением функций арбитра и в связи с арбитражем, за исключением ответственности в рамках гражданского иска по уголовному делу, который может быть предъявлен к арбитру в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в совершении которого арбитр будет признан виновным в установленном законом порядке [23]. В настоящее время в уголовном законодательстве России предусмотрен один состав преступления, где специальным субъектом является арбитр, – подкуп арбитра (третейского судьи) (статья 200.7 УК РФ [24]), характеризующийся прямым умыслом [25], что, однако, не исключает возможности привлечения арбитра к ответственности по более общим уголовным составам (например, в случае совершения им мошенничества) [32].
Таким образом, буквальный текст российского закона в настоящее время предусматривает, что для привлечения арбитра к гражданской ответственности он должен совершить умышленное деяние, за которое он должен быть привлечен в установленном порядке к уголовной ответственности, при этом потерпевший может воспользоваться для возмещения причиненного ущерба только гражданским иском в уголовном деле. При этом, если единственным способом возме- 84
щения вреда, причиненного арбитром, является гражданский иск в уголовном деле (что является спорным), то тогда размер имущественной ответственности арбитра ограничен только реальным ущербом [39].
Менее жесткий подход предложен в законодательстве Республики Узбекистан.
Так, в статье 56 Закона Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года № ЗРУ-64 «О третейских судах» содержится отсылочная норма, аналогичная той, что рассматривалась выше применительно к Республике Казахстан, о том, что лица, виновные в нарушении законодательства о третейских судах, несут ответственность в установленном порядке [26]. Однако уже в статье 6 Закона Республики Узбекистан от 16 февраля 2021 года № ЗРУ-674 «О Международном коммерческом арбитраже», поименованной «Иммунитет арбитров и других участников арбитражного разбирательства», прямо указано, что «арбитры […] не несут ответственности перед сторонами или иными лицами за любые действия или бездействие в связи с арбитражным разбирательством, если не будет доказано, что такое действие либо бездействие было умышленным» [27].
Соответственно, узбекский закон связывает допустимость гражданской ответственности арбитра исключительно с фактом совершения им умышленных деяний. Ответственность арбитра за небрежность и неосторожность в этом законе исключена.
Еще менее жестким является подход законодательства Азербайджанской Республики. В статье 26 Закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1077-VIQ «Об арбитраже» разграничиваются две ситуации [28]:
– если арбитр отказывается от исполнения своих функций или бездействует, то это не влечет за собой ответственность арбитра, за исключением случаев, когда доказано, что такой отказ или бездействие не обоснованы (пункт 26.2);
– для иных случаев арбитры освобождаются от возмещения ущерба, причиненного в связи с исполнением своих функций, при условии, что они добросовестно выполняли свои функции (пункт 26.1).
Буквальный текст этого закона свидетельствует о том, что для первого случая отказа арбитра от исполнения своих функций или бездействия фактически какого-либо иммунитета арбитра от ответственности не предусмотрено: если арбитр действует обоснованно (то есть в соответствии с применимым правом и арбитражным соглашением), то гражданская ответственность арбитра не наступает, а если необоснованно – то несет соответствующую ответственность, в том числе перед сторонами арбитража. Ответственность арбитра в данном случае возникает на общих основаниях.
Для второго же случая (для всех иных нарушений) вводится критерий иммунитета от ответственности – то, что арбитры действовали добросовестно при исполнении своих функций. Толкуя от обратного, условием гражданской ответственности арбитра является совершение им недобросовестных действий. При таком подходе, чтобы понять, за что конкретно несет гражданскую ответственность арбитр, требуется установить стандарт добросовестного его поведения (как это сделано, например, для случаев ответственности директора, недобросовестные действия которого выражаются в нарушении обязанности действовать лояльно (duty of loyalty)) [33, с. 41–45]. Также из этого подхода не следует, как соотносится недобросовестность арбитра с формами его вины (умысел, грубая небрежность). Одни исследователи полагают, что недобросовестное поведение предполагает совершение только умышленных действий [29], другие же – что оно может осуществляться также и с грубой небрежностью [30].
Также обратим внимание, что в вышеуказанной норме используется фраза «освобождаются от возмещения ущерба», из чего неочевидно, распространяется ли такое условие и на выплату упущенной выгоды, так как статья 21 ГК Азербайджанской Республики эти понятия четко разграничивает [37].
Наконец, самый мягкий подход к иммунитету арбитра представлен в законодательстве Республики Молдова. Так, отметим, что вопросы ответственности арбитра не регулируются в Законе Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 24-XVI «О международном коммерческом арбитраже» [35], а соответствующее регулирование представлено в статье 15 Закона Республики Молдова от 22 февраля 2008 года № 23-XVI «Об арбитраже» [36]. Согласно ней, арбитры отвечают за ущерб в случае, если: а) после принятия полномочий необоснованно отказываются выполнять их; b) не участвуют без обоснованных причин в рассмотрении спора или не принимают решение в срок, предусмотренный арбитражным решением; c) не соблюдают конфиденциальность арбитража, публикуя или разглашая без разрешения сторон сведения, которые стали им известны во время выполнения полномочий арбитра; d) явно нарушают свои обязанности.
Сначала заметим, что законодатель Республики Молдова прямо указывает на то, что арбитры отвечают только за причиненный ущерб, тем самым исключая ответственность арбитра в форме выплаты потерпевшему упущенной выгоды, так как в пункте 2 статьи 19 ГК Республики Молдова эти понятия строго разграничены [38].
С точки зрения оснований такой ответственности для первых двух случаев (a и b), как и применительно к законодательству Азербайджанской Республики, какой-либо иммунитет арбитра от ответственности не устанавливается: арбитры несут ответственность, если совершают необоснованные действия (то есть противоречащие применимому праву и арбитражному соглашению). Отсутствие какого-либо иммунитета от ответственности усматривается и в случае нарушения обязательств конфиденциальности (с). Во всех этих трех случаях арбитр несет ответственность на общих основаниях.
Для всех остальных нарушений арбитра законодатель Республики Молдова вводит ограничение ответственности – они должны быть явными (d). Очевидно, что тем самым законодатель хотел ограничить ответственность арбитра, так как за неявные нарушения арбитр не должен отвечать, однако непонятно, как определяется явность нарушения, какие нарушения считаются неявными, как явность соотносится с формами вины.
Вышеуказанное демонстрирует, насколько разные подходы к институту ответственности арбитра присутствуют в законодательствах рассматриваемых евразийских стран, при этом не все из этих подходов являются определенными в практическом применении. Учитывая это, полагаем, что в рамках евразийской интеграции правопо-рядки могут сблизить свои позиции в решении вопроса об ответственности арбитра, что будет способствовать развитию института арбитража и качеству разрешения споров с участием лиц из этих стран. Для этого важную роль могло бы сыграть введение сбалансированного подхода к гражданской ответственности арбитра в постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2016 года № 45-6 «О модельном законе «О третейских судах и третейском разбирательстве» [6] или в какой-то иной модельный закон, например на уровне ЕЭАС.