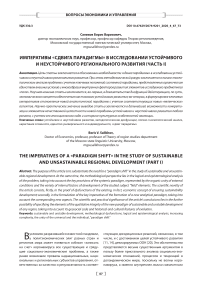Императивы "сдвига парадигмы" в исследовании устойчивого и неустойчивого регионального развития (часть I)
Автор: Салихов Борис Варисович
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Вопросы экономики и управления
Статья в выпуске: 4 (61), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи заключается в обосновании необходимости «сдвига парадигмы» в исследовании устойчивого и неустойчивого регионального развития. При этом методологический ракурс заключается в логико-гносеологическим анализе проблемы с учетом ключевых положений системной парадигмы, представленных органическим единством внешних условий и многообразия внутренних факторов развития элементов исследуемого предметного «поля». Научная новизна статьи заключается, во-первых, в доказательстве дисфункций действующего, по сути, экономического концепта обеспечения как такового устойчивого развития; во-вторых, в формулировке ключевых императивов становления новой аналитической парадигмы с учетом соответствующих новых «явленческих» аспектов. Научно-практическое значение выводов статьи заключается в дальнейшей возможности конкретизации элементов качественной целостности новой парадигмы устойчивого и неустойчивого развития любого региона, с учетом его геосоциального кода и историко-культурных особенностей эволюции.
Устойчивое и неустойчивое развитие, методологические дисфункции, логико-гносеологический анализ, нарастание сложности, единство универсального и индивидуального,
Короткий адрес: https://sciup.org/14120355
IDR: 14120355 | УДК: 330.3 | DOI: 10.47629/2074-9201_2020_4_67_73
Текст научной статьи Императивы "сдвига парадигмы" в исследовании устойчивого и неустойчивого регионального развития (часть I)
Вусловиях разразившейся известной пандемии, у политэкономических элит разных стран и регионов мира может появиться соблазн «записать на счет» коронавируса все существующие и грядущие социально-экономические проблемы, а также ранее возникшие провалы наднациональных, национальных и региональных субъектов управления, ответственных за качество и результативность соответ- ствующих дискреционных решений, связанных, в том числе, и с достижением целей устойчивого развития [11, 14], декларируемых ООН [20]. Это обстоятельство представляется весьма существенным аргументом в пользу более пристального анализа социально-экономических отношений, процессов и тенденций в допандемическом мире, поскольку не волны коронавируса, а именно внутренняя логика совместного развития стран-лидеров и стран-аутсайдеров видится глубинным основанием «новой нормальности», а также ряда других негативных тенденций мирового и регионального развития, перманентно воссоздающих режим системной неустойчивости в рамках глобального и регионального социально-экономического и политэкономического пространства [7-10].
Гипотеза исследования заключается в предположении, что именно действующая парадигма устойчивого развития, представленная множеством целей и задач, а также реализуемая в рамках «воинствующего универсализма» в форме «вашингтонского консенсуса», является не только тормозом, но и основным системным фактором социально-экономической деструкции и перманентной неустойчивости развития, все чаще принимающей турбулентный характер. Доказательство гипотезы предполагает, во-первых, качественные выводы и умозаключения из количественного анализа реальных результатов действующей «экономической» парадигмы устойчивого развития. Во-вторых, необходимость обоснования императивов разработки новой дисциплинарной матрицы исследования проблем устойчивости и неустойчивости развития, что и есть верификация требования не перезагрузки существующих «ценностных артефактов», а именно «сдвига парадигмы» для высокоэффективного решения проблемы. При этом под одноименным сдвигом понимается новая качественная целостность концепции устойчивого развития, включающая, прежде всего, новую трактовку сущности данного понятия, наиболее полный и системный учет региональной цивилизационной идентичности, а также множества других условий и факторов современного развития.
Фальсификация действующей парадигмы: онтология гипотезы. В рамках единства количественного и качественного анализа можно выявить «явленческие» провалы действующей парадигмы устойчивого развития. Учитывая, что 2012 год считается началом действия «механизма торможения» отечественной экономики (в мире торможение социально-экономического развития называется «новой нормальностью»), в Таблице 1 показано, что, например, в
России и Казахстане чистые накопления, с учетом безудержной эксплуатации природного капитала, стали величиной отрицательной (в % к ВВП): -0,8% и -1,2% соответственно. При этом истощение созидательного потенциала природы имеет место и в странах лидирующей группы: как показано в названной таблице, во всех странах истощение природных ресурсов имеет знак «плюс», причем в Норвегии этот показатель вполне сравним с российским и составляет 10,6% к ВВП. Можно обоснованно констатировать, что существующая «логика» использования природного капитала (рост его истощения; высокая доля ископаемого топлива в общем объеме его потребления и др.) отнюдь не способствует реализации императива устойчивого регионального развития страны любого поли-тэкономического «качества».
Дисфункцией парадигмы устойчивого развития, принятой ООН, объясняется также постоянно углубляющееся общее и, особенно, социально-экономическое неравенство большинства (возможно, всех) стран и регионов мира. В рамках, так называемого кластерного подхода, где каждая группа стран изначально и далее примернодвукратно отличается от соседних групп стран по уровню дохода либо в сторону увеличения (верхний соседний кластер), либо в сторону уменьшения (нижний соседний кластер), исследователи выявили феномен «разбегания кластеров», что характеризует растущий социально-экономический разрыв, как в рамках стран лидирующей и догоняющей группы, так и внутри названных групп стран. Более того, этот растущий разрыв институционализируется в форме, так называемых «ловушек»: бедности, среднего дохода, стагфляции и множестве других. В Таблице 2 показана динамика растущего межкластерного социально-экономического разрыва.
В результате анализа Таблицы 2 можно сформулировать следующие выводы:
-
- во-первых, усиливающаяся тенденция увеличения межкластерного разрыва сформирована под воздействием и в рамках действующих мировых «правил игры» и соответствующих дискреционных факторов-решений региональных политэкономиче-ских элит, что онтологически проистекает из общей
Таблица 1
|
Страна |
Чистые накопления (% к ВВП) |
Доля ископаемого топлива (% от объема) |
Доля возобновляемой энергии (% от объема) |
Истощение природных ресурсов (% ВВП) |
|
Норвегия |
12,8 |
58,6 |
45,3 |
10,6 |
|
Канада |
5,8 |
74,9 |
17,0 |
2,3 |
|
Россия |
-0,8 |
90,9 |
3,0 |
14,5 |
|
Казахстан |
-1,2 |
98,8 |
1,1 |
22,0 |
Таблица 2
Рост межкластерного разрыва стран по средним значениям ВВП на душу населения (тыс. межд. долл.) [5, с. 17]
|
Разница между кластерами |
1992 |
2000 |
2008 |
2016 |
|
1-2 |
21,0 |
22,1 |
20,8 |
23,7 |
|
2-3 |
8,2 |
11,5 |
11,2 |
9,4 |
|
3-4 |
4,9 |
6,2 |
7,3 |
7,5 |
|
4-5 |
4,0 |
4,7 |
7,1 |
8,0 |
|
5-6 |
1,5 |
1,2 |
0,1 |
1,5 |
|
6-7 |
0,8 |
0,4 |
1,5 |
1,2 |
Результаты бесконтрольного потребления природных ресурсов [1, с. 151]
логики действующей парадигмы устойчивости. Следуя данной логике, с ее приоритетом экономических регуляторов, при эклектическом множестве целей и задач, в обозримом будущем едва ли следует надеяться на формирование контртенденции, то есть сокращения отмеченного социально-экономического неравенства;
-
- во-вторых, можно обоснованно констатировать, что суждения об опережающем развитии менее развитых стран и регионов мира, относительно стран и регионов лидирующей группы, остаются не более чем декларациями. Более того, как следует из данных рассматриваемой таблицы, в 2016 году различия в доходном статусе представителей сравниваемых кластеров стали намного глубже, чем в 1992 году, что доказывает наличие тенденции дальнейшего углубления межстранового неравенства, катализируемого обострением проблем технологического колониализма и цифровой зависимости стран догоняющего развития.
Таким образом, действующая «экономическая» парадигма обеспечения устойчивого развития (парадигма ВВП, или концепция «экономического империализма») едва ли является и может быть в перспективе интегральным, критически значимым системным фактором решения релевантных задач. Более того, в современных условиях даже концепт «зеленой экономики» уже не представляется ключевым, поскольку отнюдь не связан напрямую с выявлением глубинных и действительно содержательных проблем устойчивого либо неустойчивого развития. Узкие рамки сугубо или преимущественно «экономического видения» проблемы сдерживают реальный процесс ее разрешения как минимум по двум причинам:
-
- во-первых, феномен устойчивого развития априори включает весьма обширное объектное пространство, которое невозможно охватить только экономическими факторами. В самом деле, устойчивое развитие домохозяйств, общества и государства есть результат далеко не только экономической политики и хозяйственного управления; здесь весьма суще-
- ственную роль играют ценностно-смысловые, историко-культурные и многие другие условия и факторы;
-
- во-вторых, сама экономика изначально не должна быть целевым объектом обеспечения устойчивости в силу естественных, эндогенных причин ее цикличности. Другими словами, дискреционные решения по обеспечению собственно экономической устойчивости есть «борьба с ветряными мельницами», поскольку устойчивое состояние экономики, в условиях реальной функциональности механизма конкурентного рынка, имеет своим основанием неустойчивость. Попытки сгладить такую неустойчивость есть короткий путь к стагнации и далее к системной хозяйственной деструкции или к некроэкономике. Сознательное нарушение спонтанного порядка механизма конкурентного рынка создает лишь «видимость» устойчивого экономического развития; в частности, нарушается функция санации недееспособных хозяйственных структур, что воссоздает множество «мертвых» предприятий, встающих в «очередь» к государству как финансовому «реаниматологу» за счет бюджетных средств. Экономические инструменты могут быть лишь определенной частью в целостной системе механизмов и форм обеспечения устойчивого развития, но не больше.
Отмеченные и другие положения квалифицируют ситуацию как перманентно неустойчивую либо «устойчивую именно в своей неустойчивости». Именно поэтому и было зафиксировано предположение о том, что реальный «сдвиг парадигмы» за пределы доминирующего экономического подхода к проблеме, при формировании новой качественной целостности методологии исследования устойчивого и неустойчивого развития, позволит повысить общую результативность решаемых релевантных задач. Наиболее полный учет именно неэкономических и даже некогнитивных условий и факторов устойчивого и неустойчивого развития видится критически значимым системным аргументом исследовательского успеха [15,16].
Верификация «сдвига парадигмы»: доказательство гипотезы. Анализ релевантной литературы показывает, что исследовательский подход к проблеме устойчивого развития должен, как минимум, включать и конкретизировать следующие ключевые положения: Во-первых, критическое значение имеет трактовка сущности устойчивого и, соответственно, неустойчивого развития. В рамках гегелевской диалектической взаимосвязи сущности и явления, важно четко отграничить «явление» от «видимости», а «сущность» от «декларативности» [4]. При этом логико-гносеологический сценарий исследования, одновременно, весьма противоречив и прост: «явление» устойчивого (неустойчивого) развития настолько же «существенно», насколько «сущность» устойчивого (неустойчивого) развития «является», то есть имеет внешние формы своего «сущего». Можно констатировать, что существующие трактовки сущности устойчивого развития носят преимущественно функциональный либо структурно-содержательный характер. В частности, по замыслу ООН, под устойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [20].
Такое понимание предмета в явном виде предстает как «функционально-потребительское» определение якобы сущности устойчивого развития со множеством скрытых и неизвестных переменных. Предложена некая метафора, имеющая мало общего с научным подходом, ибо здесь говорится о функции устойчивого развития, а не о том, что есть такое «устойчивое развитие». Крометого, акцентируется внимание на уже названном экономическом подходе к проблеме, что едва ли правомерно при решении столь сложной проблемы, где существенную роль играют, прежде всего, релевантные геосоциальные условия и социокультурные факторы [2, 17]. Резонно отметить, что методологическая перспектива исследования проблемы устойчивого или неустойчивого развития должна быть непосредственно увязана с действительной качественной определенностью, или онтологией процесса, где в «снятом виде» содержится потенциал последующего логико-гносеологического анализа проблемы, выводы которого заключают возможность соответствующих научно-практических инноваций;
Во-вторых, методологическим императивом является общее нарастание сложности как таковых форм и способов жизни и деятельности личности, домохозяйства, социальных групп, региональных, национальных и других сообществ [12, 13]. Феномен нарастания сложности имеет место и в рамках концепта устойчивого развития, тем более что речь идет о множестве соответствующих условий и факторов, детерминирующих различные по характеру и сложности динамические процессы. Сказанное, как минимум, означает, что следует существенно расширить предметное поле исследования проблемы, включив в аналитическое пространство гораздо больший перечень содержательных элементов, чем только аспекты экономической и природоохранной деятельности, причем в логически связанном, едином цикле комплементарных взаимодействий. При этом закономерным, логически понятным и аналитически естественным представляется императив роста междисциплинарного и многодисциплинарного масштаба исследования, поскольку нарастание сложности предопределяет существенное возрастание информационной интенсивности и когнитивного разнообразия. Действующая парадигма устойчивого развития, при всем многообразии целевых функций и разнообразии прикладных задач, лишь фрагментарно использует рекомендации гуманитарных и социальных наук, не говоря уже о разработках в области антропологии, экономической психологии и социологии [18]. Таким образом, чем сложней и разнообразней окружающая действительность, тем более архаичными представляются постулаты «голого» экономизма в сфере обеспечения устойчивого развития и характеристике его реальных перспектив. Следовательно, методологическая перспектива исследования призвана учесть растущую сложность и спонтанность (открытость, нелинейность и неравновесность) всех аспектов устойчивого или неустойчивого развития.
В-третьих, современный подход к решению задач устойчивого развития использует, прежде всего, универсальные, в том числе «консенсусные» формы. Весьма убедительным примером является так называемый «вашингтонский консенсус», включающий хорошо известный перечень, по сути, обязательных установок и направлений деятельности, причем безотносительно к специфике той или иной страны и/или региона мира. На практике универсализм инструментов и механизмов обеспечения устойчивого развития все чаще вступает во «взрывоопасное» противоречие с региональным индивидуализмом, с особенностями конкретной страны. Названный универсализм как бы оставляет в «покое» цивилизационные, именно геосо-циальные, геоэкономические, социокультурные, ценностно-смысловые, ментально-психологические, историко-институциональные и многие другие специфические условия и факторы, характеризующие действительную качественную целостность развития стран и регионов мира. При этом, как свидетельствует мировая практика, насильственно внедряемые универсальные «правила игры» (там, где для этого никак не подходит «национально-региональный грунт») закономерно превращаются из низкоэффективных инструментов обеспечения устойчивого развития в мощный фактор турбулентности, хронической неустойчивости и системной региональной деструкции[13]. Очевидно, методологическая перспектива обеспечения устой- чивого развития (либо оценок причин неустойчивого развития) должна наиболее полно учитывать параметры цивилизационной идентичности стран и регионов мира, а также институциональную историю и социальный характер соответствующих сообществ.
В-четвертых, – и это самое главное, – программы и планы устойчивого развития по-прежнему осуществляются в рамках монетаристской формы либеральной (неолиберальной) идеологии, разработанной еще в 80-х годах прошлого столетия и являющейся, в силу своей инволюционной реверсивности, методологическим артефактом и исследовательской архаикой [3]. Однако следует подчеркнуть, что как таковой либерализм заключал и будет заключать в себе колоссальный потенциал креативности (на почве необоснованной критики либерализма возникает множество политэкономических спекулятивных теорий и концептов). Речь идет о «монетарной ортодоксии» либерализма, ставшей системной причиной тотальной финансиализации современного общества и практически всех социально-экономических систем, заменив «экономику хлеба» на «экономику зрелищ» и «экономику денег». В условиях финансиализации, или монетизации всех сфер и сторон жизни общества, государства и экономики обеспечить устойчивое развитие не представляется возможным по определению. Монетаристская форма либерализма, или монетарная плутократия (власть денег) вряд ли когда-нибудь явится методологическим и научно-практическим
«аргументом» решения стратегических, например, природоохранных, экологических и гуманитарных задач, поскольку главный «промысел» монетарной идеологии всегда связан с «короткими» деньгами и «быстрой» прибылью. Монетаризм характеризуется полной индифферентностью к углубляющемуся социально-экономическому неравенству и прогрессирующей деструкции мирового и регионального человеческого капитала. В свете сказанного, методологическая перспектива исследования должна основываться на «либерализме и индивидуализме истинном» (по Ф.Хайеку и Дж.Бьюкенену) [6, 19], в рамках которого не монетарный, а гуманистический либерализм является ключевым базисом конституирования «правил о правилах» и, далее, расширенного воссоздания релевантных «правил игры». Сравнительный анализ действующей научной парадигмы устойчивого развития и соответствующие императивы «сдвига парадигмы», показаны в Таблице 3.
Отмеченные императивы «сдвига парадигмы» могут быть дополнены существующей «эклектикой целевых установок». В частности, семнадцать целей и сто шестьдесят семь задач, выдвинутых ООН, не содержат в себе некий единый функционал, связанный с критически значимой, интегральной целью развития, например, повсеместным становлением и утверждением достойной жизни человека (домохозяйства). Очевидно, что единый функционал в форме названного целевого интеграла мог бы стать фактором
Таблица 3
Методологические положения «сущего» и императивы «сдвига парадигмы» устойчивого развития
Заключение. Таким образом, «сдвиг парадигмы» в сфере теоретического обоснования механизмов реализации устойчивого развития есть, прежде всего, результат системных методологических и научно-практических дисфункций, требующих дальнейшего глубокого исследования и тестирования на предмет реального влияния на динамику и качество социально-экономических и иных процессов региональной динамики. Дисфункции «экономической» парадигмы требуют нового подхода к исследованию сущности устойчивого развития, в «снятом виде» заключающей в себе весь набор последующих «явлен-ческих» форм и модификаций. Кроме того, названная парадигма «сдвигается» также под воздействием императива постоянного усложнения функционирования открытых геосоциальных и геоэкономических систем, что предопределяет глубокое исследование специфики каждого регионального сообщества. При этом все более очевидным является вывод о низкой эффективности «экономизации» в сфере обеспечения устойчивости: экономика является лишь одним из звеньев названных открытых и неравновесных систем, причем с имманентным ей механизмом циклической неустойчивости. В следующих статьях предстоит исследовать «рабочие» формы устойчивости и неустойчивости развития, а также новое качество целевого функционала с релевантным перечнем обеспечивающих функций.
Список литературы Императивы "сдвига парадигмы" в исследовании устойчивого и неустойчивого регионального развития (часть I)
- Бобылев С.Н., Зубаревич Н.В., Соловьева С.В. Вызовы кризиса: как измерить устойчивость развития? // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 147-160.
- Брызгалин В.А., Никишина Е.Н. Существует ли региональная социокультурная специфика в России? Возможности использования социокультурного подхода в экономике // Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 108-127.
- Бузгалин А.В. Закат неолиберализма (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 122-142.
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т. 2. М., «Мысль», 1971. – 248 с.
- Григорьев Л.М., Павлюшина В.А. Межстрановое неравенство: динамика и проблемы стадий развития // Вопросы экономики. 2018. № 7. С. 5-30.
- Джеймс М. Бьюкенен. Сочинения. – М.: «Таурус Альфа», 1997. – 560 с.
- Дробышевский С.М., Трунин П.В., Божечкова А.В. Долговременная стагнация в современном мире // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 125-142.
- Идрисов Г., Мау В., Божечкова А. В поисках новой модели роста // Вопросы экономики. 2017. № 12. С. 5-24.
- Капелюшников Р. Идея «вековой стагнации»: три версии // Вопросы экономики. 2015. № 5. С. 104-134.
- Катуков Д.Д., Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Фактор созидательного разрушения в современных моделях и политике экономического роста // Вопросы экономики. 2019. № 7. С. 95-119.
- Колодко Гж. В. Последствия. Экономика и политика в постпандемическом мире // Вопросы экономики. 2020. № 5. С. 25-45.
- Любимов Л.И., Оспанова А.Г. Как сделать экономику сложнее? Поиск причин усложнения // Вопросы экономики. 2019. № 2. С. 36-54.
- Любимов И.Л. От универсализма к индивидуализму: новые подходы к решению проблем экономического роста // Вопросы экономики. 2019. № 11. С. 108-126.
- Полбин А.В., Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Экономический кризис 2020 г.: причины и меры по его преодолению и дальнейшему развитию России // Вопросы экономики. 2020. № 6. С. 5-22.
- Рожкова К.В. Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда // Вопросы экономики. 2019. № 11. С. 81-107/
- Салихова И.С. Императивы формирования самообучающейся организации в экономике знаний. М.: изд. ЧО-УВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2017. – 160 с.
- Салихова И.С. Проблемы оценки справедливой стоимости в России // В сборнике: Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в новых экономических условиях. Материалы II Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Под редакцией Ю.С. Руденко, Л.Г. Руденко. 2016. С. 621-628.
- Тамбовцев В.Л. Нарративный анализ в экономической теории как восхождение к сложности // Вопросы экономики. 2020. № 4. С. 5-31.
- Фридрих А. Хайек. Дорога к рабству. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 317 с.
- United Nations (2012). The Future We Want, Our Common Vision. Outcom Document of the 8 Rio+20 Conference. N.Y.: United Nations.