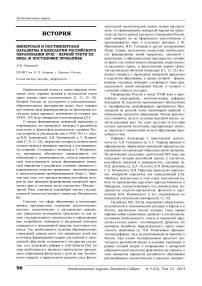Имперская и постимперская парадигма в идеологии российского образования XVIII - первой трети XX века (к постановке проблемы)
Автор: Осовский О.Е.
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (53) т.10, 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140221448
IDR: 140221448
Текст статьи Имперская и постимперская парадигма в идеологии российского образования XVIII - первой трети XX века (к постановке проблемы)
Парадигмальный подход в самом широком понимании этого термина истории и методологии науки давно доказал свою состоятельность [1, 13, 15, 18]. История России, ее культурного и интеллектуальнообразовательного пространства может быть описана при помощи ряда формирующихся на протяжении нескольких веков парадигм, ключевыми из которых для XVIII – XX будут имперская и постимперская [23].
О начале формирования имперской парадигмы и порождаемого ею имперского дискурса в российской идеологии и философско-религиозном сознании России подробно и убедительно еще в 1920–30-х гг. писали В.В. Зеньковский, Л.В. Пумпянский, о. Г. Флоров-ский [7, 8, 21, 22], творчество которых в значительной степени является примером перехода к постимперскому сознанию. Соглашаясь с позицией о. Г. Флоровско-го, подчеркнем абсолютную справедливость его наблюдения о «неожиданности», отчасти идеологической искусственности начала формирования имперской парадигмы в российском сознании, связанного с радикальными политико-правовыми, экономическими и идеологическими преобразованиями Петра I. Заметим при этом, что предшествующая российская история не дает примеров формирования имперской парадигмы даже в ситуации, когда идеологема «Москва – третий Рим» становится важнейшей частью государственной идеологии великого княжества Московского [6].
Отметим, что сфера образования и воспитания, являясь пространством схождения идеологических, научных, педагогических и методических практик, дает уникальную возможность проследить то, как задачи государственного строительства и определяемые ими потребности экономики и внутренней политики отражаются в повседневной практике подготовки учащихся. Так, необходимость создания образовательных учреждений, прежде всего для дворянских детей как источника формирования кадров для военной и гражданской сфер вновь создаваемого государства составляет суть петровских реформ в этой области [26], но сама необходимость процесса строительства гражданского образования фактически с нуля не дает возможности говорить о параллельном решении здесь фунда- ментальной идеологической задачи: можно предположить, что формирование имперской парадигмы происходит de facto в рамках реального становления Российской империи, но не оформляется идеологически и просматривается лишь в отдельных репликах у Ф. Прокоповича, В.Н. Татищева и других сподвижников Петра. Однако постепенное осмысление необходимости формирования новой парадигмы, связанной с включением в образовательное пространство, которое по факту уже можно назвать имперским, инородческого населения страны, и представление первых проектов организации обучения инородцев [11, 12, 22] позволяют говорить о зарождении имперской парадигмы в идеологии образования, в центре которой – формирование «человека империи», сознающего свою принадлежность новой имперской России и готового к служению стране и государю.
Превращение России к концу XVIII века в европейскую сверхдержаву, многочисленные реформы Екатерины II, идеология просвещенного абсолютизма и специфическая трансформация европейского Просвещения на русской почве закономерно приводят к обновлению идеологии образования. Россия фактически становится на путь создания массовой школы, заметно расширяя круг тех, кому доступна та или иная ступень школьной подготовки, предпринимает попытку перехода к современной модели образования европейского типа.
Реформы Александра I, практическая деятельность кн. А.Н. Голицына и гр. С.С. Уварова приводят к официальному оформлению имперской парадигмы как важнейшей составляющей образовательной доктрины. На протяжении следующих десятилетий XIX века, как показывает история российской школы, в частности, российских гимназий и университетов, усилиями гр. И.Д. Делянова, гр. Д.А. Толстого, К.П. Победоносцева, С.А. Рачинского, Н.И. Пирогова происходит закрепление имперской парадигмы как определяющей [16]. Наиболее показательна в этом плане многолетняя работа по просвещению нерусских народов Поволжья и Приуралья, осуществлявшаяся под руководством выдающегося педагога-просветителя, филолога и переводчика Н.И. Ильминского и его сподвижников по Казанской учительской семинарии [9, 12, 14].
На рубеже XIX–XX вв. изменения в общественнополитической и экономической ситуации в Европе и в России, трагическим итогом которых стали первая мировая война и революция, приводят к постепенному осознанию необходимости отказа от имперской парадигмы в пользу новой – постимперской. Думается, что примером подобного парадигмального сдвига может служить заявленная гр. П.Н. Игнатьевым образовательная реформа, так и не реализованная на практике в России. Еще одним подтверждением предстает деятельность российской школы в условиях эмиграции, в рамках которой вопрос о возвращении к имперской образовательной идеологии практически не ставился, а сама имперская парадигма российского образования рассматривалась исключительно в пределах эмигрант- ской истории русской школы, прежде всего в работах Н.А. Ганца, С.И. Гессена, В.В. Зеньковского и др. [2, 3, 8], в ходе многочисленных обсуждений проблем эмигрантской школы на съездах педагогической общественности, в газетах и журналах российского зарубежья [10, 14, 17, 19, 24, 25]. Примечательно, что данная тема осталась одной из наиболее важных для Н.А. Ганца и в «английский» период его научнопедагогической деятельности [26, 27].
Другой тип постимперской парадигмы в идеологии образования предлагает советское государство, в своей политике во многом имплицитно сохраняющее претензию на имперский масштаб и тотальность проявления государственной власти и мощи насилия, «кровавого карнавала» [4, 5, 20] не только во внутренней, но и во внешней политике. Однако формирование этой парадигмы в идеологии «Советской империи» в силу особой сложности проблемы должно стать предметом специального рассмотрения.
Список литературы Имперская и постимперская парадигма в идеологии российского образования XVIII - первой трети XX века (к постановке проблемы)
- Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. О педагогических парадигмах//Магистр. -1992. -Май. -С. 16-17.
- Ганц Н.А. Школьная система Александра I//Русская школа за рубежом. -1927. -№ 24. -С. 669-684.
- Гессен С.И. Педагогические сочинения/Сост.: Е.Г. Осовский, М.В. Богуславский, О.Е. Осовский. -Саранск: Красный Октябрь, 2001. -564 с.
- Добренко Е. Сталинская культура: двадцать лет спустя//Новое литературное обозрение. -2009. -№ 1 (95). -С. 300-327.
- Добренко Е. Сталинская культура: города и годы//Новое литературное обозрение. -2014. -№ 2 (126). -С. 345-365.
- Живов В. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. -М.: Новое литературное обозрение, 2004. -360 с.
- Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. -М.: Республика, 1997. -368 с.
- Зеньковский В.В. Педагогические сочинения/Сост. Е.Г. Осовский, О.Е. Осовский. -Саранск: Красный Октябрь, 2002. -807 с.
- Киржаева B.П. Казанская учительская семинария в политикоправовом и культурно-образовательном контексте эпохи//Интеграция образования. -2003. -№ 2. -С. 112-120.
- Киржаева В.П. Обсуждение программ по русскому языку в педагогических дискуссиях русской эмиграции 1920-х гг.//Интеграция образования. -2009. -№ 1. -С. 26-29.
- Киржаева В.П. Обучение русскому языку мордвы во второй половине XVIII -начале XX века: политико-правовые, социокультурные и лингвокультурные аспекты. -Саранск Б.и., 2005. -416 с.
- Киржаева В.П. Просвещение нерусских народов Поволжья и Приуралья в первой половине 18 -начале 19 века//Педагогика. -2005. -№ 1. -С. 63-71.
- Кун Т. Структура научных революций. -М.: Издательство АСТ, 2001. -608 с.
- Осовский Е.Г. Избранные педагогические сочинения. -Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2005. -280 с.
- Осовский О.Е. Бахтин вчера, сегодня, завтра: к завершению издания собрания сочинений М.М. Бахтина//Гуманитарные науки и образование. -2013. -№ 2. -С. 101-106.
- Осовский О.Е. История подвижничества и реформаторства в российском образовании//Интеграция образования. -2006. -№ 3. -С. 180 -182.
- Осовский О.Е. Малоизвестная рецензия Джона Дьюи//Гуманитарные науки и образование. -2010. -№ 3. -С. 26-30.
- Осовский О.Е. Методология и технологии образования на современном этапе: потенциал, реальные возможности и новые горизонты//Интеграция образования. -2009. -№ 2. -С. 120122.
- Осовский О.Е. Переживание «утраты дома» у детей-беженцев из России (по материалам школьных сочинений первой половины 1920-х гг.)//Гуманитарные науки и образование. -2010. -№ 1. -С. 60-63.
- Осовский О.Е. Рец. на кн.: Попова И.Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы (М., 2009)//Известия РАН. Серия литературы и языка. -2012. -№ 2. -С. 76-80.
- Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. -М.: Языки русской культуры, 2000. -864 с.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. -Вильнюс: Б. и., 1991. -601 с.
- Шишков В.В. Имперская парадигма: испытание модернизацией и национализмом//Вестник Пермского университета. Серия: Политология. -2013. -№ 1. -С. 92-101.
- Школа, образование и педагогическая мысль русской эмиграции: материалы к энциклопедии. -Вып. 1/отв. ред. О.Е. Осовский. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. -248 с.
- Школа, образование и педагогическая мысль русской эмиграции: материалы к энциклопедии. Вып. 2/отв. ред. О.Е. Осовский, В.П. Киржаева. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. -221 с.
- Hans N. History of Russian Educational policy. 1701-1917 (1931). -L.: Russell & Russell, 1964. -255 p.
- Hans N. New Trends in Education in the Eighteenth Century: International Library of Sociology (1951). -L.: Routledge, 2003. -264 p.