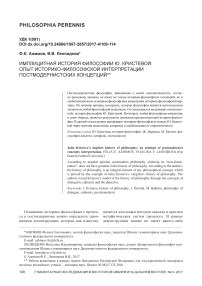Имплицитная история философии Ю. Кристевой: опыт историко-философской интерпретации постмодернистских концепций
Автор: Ажимов Феликс Евгеньевич, Леонидова Виталина Владимировна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (42), 2017 года.
Бесплатный доступ
Постмодернистская философия, заявляющая о своей «неклассичности», согласно расхожему мнению, не имеет не только историко-философских оснований, но и свойственной всем основным философским концепциям историко-философской картины. По мнению авторов, во-первых, история философии является неотъемлемым элементом любой философской концепции, что доказывается на примере «имплицитной» истории философии Ю. Кристевой. Во-вторых, любая философская концепция, в свою очередь, является результатом эволюции предшествующей истории философии. В данной статье авторы раскрывают историко-философскую модель Ю. Кристевой через понятия диалогизма, катарсиса и освобождения от отвратительного.
Ю. кристева, история философии, ж. деррида, м. бахтин, философия диалога, катарсис, психоанализ
Короткий адрес: https://sciup.org/170175731
IDR: 170175731 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2017-4/108-114
Текст научной статьи Имплицитная история философии Ю. Кристевой: опыт историко-философской интерпретации постмодернистских концепций
Понимание историко-философского процес- является ключевым методом анализа и критики са в постмодернизме можно определить прин- метафизических систем прошлого. В рамках ципами деконструкции, которая, как известно, деконструкции знание не имеет какого-либо устойчивого исторического смысла, представляет собой культурный текст, дискурс, существующий, во-первых, только в пространстве интерпретации, то есть субъективно, и значит, во-вторых, только как нечто, связанное с другими текстами и не принадлежащее конкретной эпохе или контексту. Субъект знания, в свою очередь, встроен в сам процесс интерпретации, неотделим от интерпретируемого текста (см. напр.: [5, с. 124-133]).
В этом отношении философия едва ли может рассматриваться в постмодернистском контексте как объективное исторически развивающееся целое. Однако методологическое состояние современной истории философии [1; 2; 9; 10; 11; 12; 13] свидетельствует о невольном созвучии историко-философского и постмодернистского дискурсов. Плюралистический характер исторических подходов к философии, который сегодня определяет панораму историко-философской науки, как будто бы отвечает постмодернистскому развенчанию познавательного стремления к достижению окончательного объективного знания.
Различие состоит в том, что если в историко-философской науке концептуальный плюрализм воспринимается как проблема [10, с. 21; 12, с. 242], решение которой следует искать, то в постмодернистской философии плюрализм является принципом познания. Современные подходы к истории философии свидетельствуют о попытках в той или иной степени совместить историческое многообразие философии с возможностью ее целостного концептуального представления. В постмодернистской философии, напротив, важно выявление как можно большего набора интерпретаций знания.
Учитывая данные обстоятельства, мы не найдем в постмодернистской мысли научных «историко-философских концепций», однако трудно отрицать у постмодернистских философов наличие историко-философских взглядов. Сам характер постмодернистской философии дает нам санкцию на интерпретацию ее работ в качестве историко-философских. Данная интерпретация, конечно, не будет ключевой для постмодернистского дискурса, и выявленные историко-философские смыслы следует признать скорее имплицитными. Тем не менее, имплицитная история философии – это тоже неотъемлемая часть философии как всегда продолжающегося процесса [1, с. 31], а, следовательно, и часть историко-философской науки.
Для раскрытия имплицитной истории философии постмодернизма мы обратимся к рабо- там французского автора Юлии Кристевой. В ее творчестве есть труды, посвященные конкретным мыслителям (например, М.М. Бахтину), а также присутствует концептуальный подход к видению развития философии в контексте проблемы отчуждения другого.
Возможность прочтения сочинений Ю. Кри-стевой как историко-философских мы видим в следующих содержательных моментах ее трудов. Одной из задач философской мысли она признает преодоление отвратительного, конституирующего бытие субъекта: «катарсис оказывается неотъемлемой задачей философии» [8, с. 65]. Этот процесс носит исторический характер: «Поэтический катарсис, который окажется в роли младшей сестры философии и в непримиримой оппозиции к ней в течение двух тысяч лет, отдаляет нас от чистоты, а значит, и от той кантовской морали, которая долго управляла современными заповедями и осталась верной своеобразному стоическому платонизму». Историческую линию философской мысли Ю. Кристева выстраивает именно через анализ развития катарсической функции философии, которая, по мнению французской мыслитель-ницы, зарождается у Платона и находит завершение в психоаналитической теории. Второй момент связан с изучением Ю. Кристевой идей М.М. Бахтина, в контексте анализа которых она репрезентирует идею русскости как варианта феномена «друговости», концептуализируя в ней представление о типах интеллектуальной мысли, иных по отношению к западному интеллектуальному типу дискурса.
Теперь попытаемся интерпретировать «историко-философские» взгляды Ю. Кристевой, опираясь на две ее известные работы. Первая, посвященная творчеству М.М. Бахтина, «Бахтин, слово, диалог и роман» (1967) [7], относится к ранним работам, вторая – «Силы ужаса: эссе об отвращении» (1982) [8], в которой она вводит в дискурс постмодернизма такие понятия как «отвращение», «матереубийство», «выблевывание», считающиеся комментаторами ключевыми для ее философии [6].
«Историко-философская» стратегия, которой следует Ю. Кристева, состоит в критике универсализма, выраженного в традиционной метафизике, языке и других культурных практиках, направленных на вытеснение другого. Как отмечает в этой связи комментатор Ю. Кри-стевой И. Жеребкина, «самым парадоксальным итогом творчества Ю. Кристевой с ее радикальной, впервые введенной в западную метафизику философией материнского (с ее «выблеванными» «силами ужаса»), строящей свои радикальные и «вульгарные» философские дискурсивные стратегии как стратегии отвратительного («выблевывание матери» как «выблевывание» всех возможных типов универсализма — от традиционной культуры и языка до традиционной политики)» [6, с. 34].
В ранний период творчества французского мыслителя мы находим отражение ее историко-философских взглядов в анализе трудов М.М. Бахтина [7]. Разбирая лингвистическую концепцию русского мыслителя, Ю. Кристева показывает, как в современном философском дискурсе развиваются понятия интертекстуальности, диалогизма, письма, противостоящие традиционному пониманию слова как монологического повествования, за которым стоят такие традиционные формы дискурса, как теологический и метафизический. К творчеству М.М. Бахтина французский философ обратилась неслучайно. В идеях, подобных бахтинским, Ю. Кристева находит основания для критики западной интеллектуальной традиции. «С первых, семиотических работ интенсивно использованное понятие «русскости» (в виде философии телесного низа Бахтина или экста-тически-революционного языка русских формалистов), с самого начала направленные – тем самым – против западных дискурсивных норм и для которых Кристева позже, кроме «выблевывания» (материнского тела) вводит специальное понятие «матереубийства»» [6, с. 27].
Интерпретация письма (слова) М.М. Бахтиным выводит его идеи, по мнению Ю. Кристе-вой, из пространства обычного опредмеченно-го объективированного письма в пространство дискурса [7, с. 429, 432], в котором текст является диалогом различных текстов, происходит взаимодействие автора и другого, выход текста в культурное и историческое окружение. Основное открытие, сделанное М.М. Бахтиным, – это признание текста результатом цитаций и трансформаций других текстов. Ю. Кристева пишет, что у Бахтина «…на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности…» [7, с. 429]. Текст – это другой, под которым может пониматься иной текст, культурный контекст, история, с которыми (а также между собой) вступают в диалог автор и читатель, превращая тем самым текст в дискурс. Следуя за М.М. Бахтиным в понимании текста [3, с. 66; 14, с. 88] и обозначая его термином интерсубъективность, Ю. Кристева встраивает бах- тинскую концепцию в постструктуралистскую традицию, что соответствует, как подмечено ею самой и её комментаторами, желанию французской исследовательницы вводить в западный философский дискурс «мигрантское», чужеродное начало, к которому она же сама и принадлежит в силу своего восточноевропейского происхождения [6, с. 31-32].
М.М. Бахтин выделяет два типа дискурса: монологический и диалогический. В разделении этих дискурсов Ю. Кристева усматривает противопоставление логики культуры традиционной, метафизической, ставшей, абсолютистской логике культуры карнавальной, становящейся, рождающейся в пространстве диалога с другим [7, с. 443]. К традиционному монологическому дискурсу относятся эпическое повествование, научный и исторические дискурсы, к диалогическому – карнавал, ме-ниппея, полифонический роман [7, с. 441-442]. В традиционном монологическом дискурсе скрыты субстанциальность, нормативность, запрет, вытеснение всего ненормативного, логика единичного, апеллирующая к «божественному», «социальному», это дискурс официальной культуры. В диалогическом дискурсе нарушается логика причинности, субстанциальности [7, с. 436], открывается «другой» – неофициальное, ненормативное, взаимодействуют между собой различные уровни и тексты культуры. В философии монологический дискурс воплощен в формальной аристотелевской логике, выражающейся в казуальности, иерархичности, субстанциальности, диалогизм преодолевает оппозиционность традиционной логики представлением о языке как о взаимосоотнесенных текстах [7, с. 450]. М.М. Бахтин, концептуализируя проблему диалогизма в идеях карнавала, полифонического романа, открывает возможность для другого. Феномены карнавала, в котором выражает себя неофициальная ненормативная культура, полифонический роман, являющийся пространством встречи автора, героев и читателя, мениппея, представляющая собой некую практическую философию жизни, решающую последние вопросы бытия [7, с. 447-448] – все эти формы суть разрушающие онтологическую целостность субъекта, погружающие его в различные контексты, оппозиции, разрывы культурного пространства. «Диалогизм мениппейных слов непосредственно является такой практической философией, которая вступает в схватку с идеализмом и с религиозной метафизикой (с эпосом): он есть не что иное, как социально-политическая мысль эпохи, полемизирующая с теологией (с законом)» [7, с. 448]. Диалогизм тем самым снимает идею вытеснения другого, наблюдаемую в традиционных дискурсах. Интерпретацию Ю. Кристевой творчества М.М. Бахтина, русского мыслителя, можно трактовать как часть ее имплицитной истории философии, в которой бахтинские идеи диалогизма выступают альтернативой традиционному западному философскому дискурсу. Сам М.М. Бахтин, «отпрыск революционной России» [7, с. 432], для Ю. Кристевой есть символ философской коммуникации, рожденной в условиях острых социальных коллизий, побуждающих обращаться к проблеме другого и превращающих язык из метафизического в социальное начало. Социальность, историчность, широкое бесконечное пространство диалогизма делает его «основой интеллектуальной структуры нашего времени», тяготеющего к интертекстуальным формам мысли [7, с. 454].
Еще один вариант проблемы вытеснения другого представлен в более позднем сочинении французского автора «Силы ужаса: эссе об отвращении» [8]. В этой работе Ю. Кристе-ва совершает небольшой экскурс в историю философии с позиций психоанализа. Французский философ использует психоаналитический метод в качестве инструмента для анализа отвращения – «фундаментальной» проблемы общества [8, с. 63], которую, как считает Ю. Кристева, оно научилось вытеснять. Через отвратительное происходит становление, в том числе телесное, субъекта, но в дальнейшем оно должно быть исключено из процесса его развития [4]. В философии психоаналитика интересует логос как вариация преодоления отвратительного посредством интеллектуального очищения сознания субъекта. Проблему очищения сознания впервые осознал Платон, заинтригованный, по словам Ю. Кристевой, вопросом противопоставления аполлонийского и дионисийского культов [8, с. 64].
Итак, философия есть логос, в котором посредством катарсиса возможно очищение от отвратительного, от нечистоты. У Платона оно совершается либо посредством постижения интеллектуальной истины и освобождения от материального, либо посредством моральных действий. Ю. Кристева, комментируя платоновский идеализм, приходит к выводу, что все же последней инстанцией очищения является разум – «в трансцендентальном идеализме ка- тарсис превращается в философию» [8, с. 64]. Философия тождественна интеллектуальному катарсису, в платоновском варианте она есть чистый интеллектуальный акт. Задача философии – очистить от отвратительного, отделив субъект от него телесно и духовно.
Противоположную платоновской концепцию предлагает Аристотель. По мнению Ю. Кри-стевой, Аристотель противопоставляет платоновской смерти, как условию чистоты, акт поэтического очищения, в котором защита от отвратительного происходит через погружение в него. Чистому философскому размышлению противопоставляется сексуальный дискурс: душа и тело, погружаясь в оргию посредством эстетических практик, приводят субъекта в конечном итоге к гармонии [8, с. 64]. Отвратительное здесь не уничтожается, но снимается гармонизацией телесного и духовного. «Речь идет об очищении души и тела в едином и комплексном кругообращении «желчи» и «огня», «мужского жара» и «воодушевления» «интеллигенции». Размер и пение будят таким образом нечистоту, оборотную сторону интеллигенции – страстно-телесно-сексуально-потенциальную – но приводят его к гармонии, обращаются с ним иначе, чем знание мудреца» [8, с. 64].
Аристотелевский поэтический катарсис и стоический платонизм образуют две оппозиционные линии в истории мысли, которые были, по словам Ю. Кристевой, непримиримы в течение двух тысяч лет [8, с. 65]. Далее они воплощаются в кантовской морали, в которой очищение от отвратительного осуществляется в этическом воспитании сознания, и в гегелевском идеализме, близком аристотелевскому пафосу в своем признании фундаментальной неустранимости отвратительного, видящем момент его снятия в историческом акте заключения в упорядоченные социальные формы.
И. Кант считает отвратительное скверной, сексуальной по происхождению, от которой следует освободиться, философско-этическим актом сознания подчинив отвратительное [8, с. 65]. Г. Гегель, по мнению Ю. Кристевой, видит, как и И. Кант, в отвратительном сексуальную нечистоту, однако не признает дихотомию духовного и телесного, но считает, что отвратительное диалектически конституирует сознание и оно снимает себя само в акте брака («в истории») [8, c. 66].
Однако в гегелевской мысли, не воспринявшей оргиастический катарсис Аристотеля, философское очищение остается незавершенным, так как отвратительное, которое снимается развитием идеи, уходит в подсознание [8, с. 66], в молчание и печаль в терминах Ю. Кристевой. Из подсознания отвратительное извлекается уже психоанализом.
Психоанализ Ю. Кристева считает близким по своему характеру аристотелевскому поэтическому пути очищения. Интерпретация психоаналитика схожа с миметическим характером катарсиса в аристотелевском смысле: через обращение к аффектам происходит их экспликация, переживание и гармонизация, подобные тому, что мы видим в эстетическом катарсисе [8, с. 67]. Таким образом, психоанализ в понимании Ю. Кристевой преодолевает разрыв, образовавшийся в истории философии в связи с пониманием взаимоотношения отвратительного и идеального.
Итак, философская проблема, к которой обращается Ю. Кристева, осуществляя историко-философский анализ – это взаимоотношение отвратительного и чистого, дионисийского и аполлонического. Указанную дихотомию можно рассматривать как вариант фундаментального философского вопроса о материальном и идеальном, однако взятом в психоаналитическом контексте и приобретшем в связи с этим сексуальные коннотации. Решение этой дихотомии в платоновском духе в истории философии инициировало мораль и социальные практики, построенные на вытеснении сексуального как главной формы отвратительного, поскольку процесс освобождения от отвратительного был увязан с очищением от телесной и, в первую очередь, сексуальной нечистоты.
Выводы, которые можно сформулировать, исходя из рассуждений Ю. Кристевой, следующие. История философии является частью культурного процесса по продуцированию способов преодоления отвратительного. В этом смысле она есть проявление западной модели культуры, построенной на подавлении и вытеснении. Философия как историческая форма породила три вида катарсической практики преодоления отвратительного: интеллектуальный катарсис (платоновский вариант), интеллектуально-телесный катарсис (аристотелевский вариант), интеллектуально-социальный катарсис (гегелевский вариант).
Итак, имплицитную историю философию Ю. Кристевой раскрывают понятие диалогизма и отвратительного. Диалог и идея вытеснения отвратительного характеризуют ключевые содержательные моменты истории мысли. Про- блему вытеснения отвратительного можно трактовать как одну из форм отчуждения другого, идея которого воплощена в истории философии, являющейся частью западных дискурсивных норм. Диалогизм здесь является философской практикой возвращения и принятия другого.
В истории мысли проблема преодоления отвратительного получила два пути решения. Первый, связанный с интеллектуальным катарсисом и победой с последующим тысячелетним довлением над философской мыслю трансцендентального идеализма, соединил процесс освобождения от отвратительного с телесной чистотой и постижением интеллектуальной истины. Второй путь, изначально воплотившийся в катарсической концепции Аристотеля, предполагал гармоничное соединение аффективного и интеллектуального начал в эстетическом переживании аффектов. Как следует из трактовки Ю. Кристевой, философия пошла по первому, платоновскому пути развития, найдя законченное выражение в трансцендентальном идеализме И. Канта. В рамках него отвратительное осуждается как сексуальная нечистота, которую следует подчинить развитием сознания. Линия осуждения находит продолжение у Гегеля, который предлагает снимать сексуальную нечистоту в социальной практике брака, что проблему не снимает, а только переносит на невербальный уровень бытия, в дискурс молчания.
Отчуждение другого, конституированное в западной мысли, снимается в диалоговых интеллектуальных формах. Их Ю. Кристева разбирает на примере концепции М.М. Бахтина, творчество которого символизирует альтернативную западному философскому дискурсу коммуникативную философскую линию.
Таким образом, историю философии в изложении Ю. Кристевой можно понимать как эволюцию в первую очередь западной мысли, генеральной тенденцией которой является дискурс отчуждения, закрепленный в традиционной метафизике и предстающий в качестве нормативного. Указанные тенденции преодолеваются в современных концепциях, в том числе принадлежащих незападной мысли, к которым Ю. Кристева относит философию диалога, в русском бахтинском варианте, и отчасти свое собственное творчество.
Список литературы Имплицитная история философии Ю. Кристевой: опыт историко-философской интерпретации постмодернистских концепций
- Ажимов Ф.Е. Философия: история или теория? Заметки о специфике истории философии//Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32.
- Визгин В.П. К обновлению истории философии: размышление ad hoc//Философский журнал. 2013. № 2. С. 70-82.
- Высочина Ю.Л. Концепция «диалогизма» М.М. Бахтина как основание постструктуралистской концепции интертекстуальности Ю. Кристевой//Филология и человек. 2016. № 4. С. 63-69.
- Глушнёва Ю.Д. Теория материнского Юлии Кристевой как стратегия анализа женственности в кинематографе//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2 . -Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21285904_61776864.pdf
- Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
- Жеребкина И. «Будто матерью блюешь.»: философия материнского Юлии Кристевой//Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003. С. 25-35.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман//Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму/Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: ИГ Прогресс, 2000. С. 427-457.
- Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003.
- Куренной В.А. Полемика профессионалов: конкуренция и опровержение исследовательских программ в современной философии//Логос. 2014. № 4. С. 106-146.
- Ойзерман Т.И. Философия как история философии. СПб.: Алетейя, 1999.
- Просветов С.Ю. Методологические аспекты метатеоретической интерпретации истории философии//Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 14. С. 19-23.
- Просветов С.Ю. Социокультурная интерпретация логики развития историко-философского процесса//Общество и право. 2013. № 1. С. 242-245.
- Просветов С.Ю. Структура историко-философской парадигмы//Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. Т. 1. № 2. С. 234-238.
- Фомин К.А. Трансформация концепции традиции в эстетике постструктурализма (Ю. Кристева, Р. Барт)//Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. 2015. № 3 (15). С. 84-96.