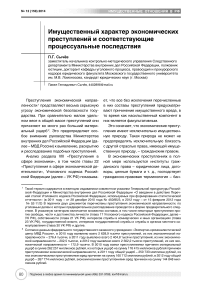Имущественный характер экономических преступлений и соответствующие процессуальные последствия
Автор: Сычв Павел Геннадиевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право - борьба с экономическими преступлениями
Статья в выпуске: 12 (159), 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует процессуальные проблемы расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности. Доказывает, что главные инструменты возмещения государству, гражданам и организациям причиненного преступлением ущерба - гражданский иск и арест имущества - в условиях современной экономической преступности неэффективны, необходима их модернизация. Предлагает ввести в уголовный процесс в качестве гражданских ответчиков таких участников, как «бенефициар» и «бенефициарный владелец», изменить теоретическую основу наложения ареста на имущество.
Экономические преступления, имущественный характер экономических преступлений, гражданский иск, арест имущества, дифференцированный порядок судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/170172641
IDR: 170172641
Текст научной статьи Имущественный характер экономических преступлений и соответствующие процессуальные последствия
Преступления экономической направленности 1 представляют весьма серьезную угрозу экономической безопасности государства. При сравнительно малом удельном весе в общей массе преступлений они причиняют во много раз больший материальный ущерб 2. Это предопределяет особое внимание руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) к выявлению, раскрытию и расследованию подобных преступлений.
Анализ раздела VIII «Преступления в сфере экономики», в том числе главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) показыва- ет, что все без исключения перечисленные в них составы преступлений предусматривают причинение имущественного вреда, в то время как насильственный компонент в них является факультативным.
Это означает, что экономические преступления имеют исключительно имущественную природу. Такая природа не может не предопределять исключительную близость с другой отраслью права, имеющей имущественную природу, – гражданским правом.
В экономических преступлениях в полной мере используются институты гражданского права – юридические лица, договоры, ценные бумаги и т. д., господствует гражданско-правовая терминология – бан-
ковский счет, реестр акционеров, транзакция, бенефициар и т. д., и не только господствует, эти институты в полной мере исследуются при выявлении и расследовании экономических преступлений. И это неудивительно, поскольку основными участниками таких расследований являются предприниматели (как обвиняемые, так и потерпевшие).
И самое главное – объектом преступных посягательств является установленный порядок осуществления экономической и предпринимательской деятельности 3.
Здесь нельзя не упомянуть о том, что рассматриваемый вид отношений некоторые философы признали основой общества. В известных работах К. Маркс назвал отношения, возникающие в связи с производством и распределением прибавочного продукта «базисом», а остальные общественные отношения – «надстройкой» 4. Несмотря на произошедшие в последнее время в мире политические изменения, выводы марксистской теории до сих пор признаются основополагающими.
Таким образом, преступления в этой сфере являются посягательством на базовые отношения в обществе, в связи с чем нельзя не выделить их в особую категорию уголовно наказуемых деяний.
При исследовании и доказывании пося- гательств на отдельный, а тем более особый род общественных отношений нельзя не использовать дефиниции и институты этой сферы общественных отношений. Более того, когда преступления «завуалированы» под законный порядок осуществления правоотношений (например под осуществление договорных отношений), следователю для доказывания преступления так или иначе необходимо воспроизвести в уголовном деле сначала этот порядок в правильном виде, а затем изложить доказательства их фиктивности.
При расследовании преступлений в сфере экономической и предпринимательской деятельности «переплетение» гражданско-правовых институтов с инструментами доказывания уголовно-процессуального характера тесно, как ни в каких других видах расследований. Эта близость не могла не вызвать такое явление как взаимопроникновение уголовного и гражданского права и взаимодействие уголовной и гражданской юстиции. Аспекты такого взаимодействия многогранны, и начать их анализ предлагается с такого вроде бы достаточно хорошо изученного института, как гражданский иск в уголовном деле 5.
Известнейший русский юрист И.Я. Фой-ницкий писал: «Уголовное обвинение составляет главную часть уголовного процес-
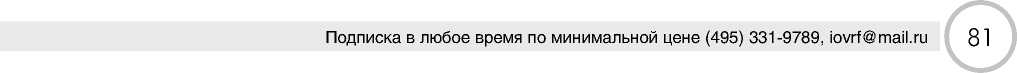
са. Но преступное деяние кроме интересов публичных, государственных может нарушать еще частные интересы, что дает место гражданскому иску в уголовном процессе. Под гражданским иском в уголовном процессе следует поэтому разуметь предъявленное уголовному суду требование о вознаграждении за вред и убытки, причиненные преступным деянием» 6. В советское время о гражданском иске в уголовном деле высказывались профессор М.А. Чель-цов, П.П. Гуреев, А.Г. Мазалов, Э.Ф. Куцо-ва 7.
Не всегда и не все соглашались с целесообразностью гражданского иска в уголовном деле. В. Борзов полагал, что гражданский иск неуместен в уголовном процессе. Выступая против обоснования этого института в уголовном судопроизводстве соображениями целесообразности и «процессуальной экономии», он указывал, что в результате этого продолжающегося не один десяток лет эксперимента уголовнопроцессуальная форма приобрела уродливые очертания, а вместе с ней деформировалась и правосудная деятельность по рассмотрению уголовных дел. В. Борзов посчитал, что диспозитивность гражданского иска уголовному судопроизводству не свойственна, так как противоречит принципам уголовного судопроизводства. В то же время приданный гражданскому иску в уголовном судопроизводстве характер публичности противоречит его гражданско-правовой природе 8.
В. Сысоев и К. Храмцов вступили в полемику, полагая, что позиция В. Борзова весьма уязвима как с теоретической, так и с практической точек зрения. Они считали, что институт гражданского иска не только не противоречит задачам и принципам уголовного судопроизводства, но, вполне соответствуя им, представляет собой дополнительную гарантию прав потерпевших от преступления. Гражданский иск в уголовном процессе возможен прежде всего потому, что деяние лица противоречит нормам как уголовного, так и гражданского права, являясь основанием как уголовно-правовой, так и гражданско-правовой ответственности. Одно только единство этих оснований свидетельствует о допустимости рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе 9.
Возобладало мнение, что при решении этого вопроса необходимо руководствоваться прежде всего интересами лиц, пострадавших от преступления. Все теоретические рассуждения теряют свой смысл, если их итогом является усложнение (удвоение) для потерпевшего от преступления процедуры восстановления нарушенных прав. Другой дореволюционный классик уголовного процесса С.В. Познышев обращал на это внимание: «При недопущении соединенного процесса потерпевшему приходится вынести тяжесть двух процессов – уголовного и гражданского. Все соображения о том, что гражданский иск не может получить достаточного освещения в уголовном суде,.. все эти соображения неубедительны уже ввиду того, что подача гражданского иска в уголовный суд есть лишь право, которым истец и не воспользуется, если найдет это невыгодным» 10.
Так или иначе, этот институт существует, однако во времена И.Я. Фойницкого,
С.В. Познышева, да и в советское время функция гражданского иска ограничивалась возложением на обвиняемого или его представителя (гражданского ответчика) обязанности возмещения потерпевшему стоимости похищенного имущества, а также затрат на восстановление поврежденного имущества, лечение и т. д.
В настоящее время этого уже недостаточно. Стоит назвать только три аспекта исследуемой проблематики, которые несет нам экономическая преступность, чтобы задуматься над достаточностью выполняемых институтом гражданского иска задач:
-
1) рейдерские захваты в конце 1990-х – начале 2000-х годов повлекли незаконное отчуждение огромного количества объектов недвижимости, стоимость которого исчисляется сотнями миллиардов рублей только по доказанным следствием и признанным судом эпизодам 11. Однако многие и многие законные собственники (потерпевшие по уголовным делам) даже в случае привлечения установленных следствием обвиняемых к уголовной ответственности лишились своего имущества. Проиграв арбитражные процессы (а условия проигрыша изначально закладываются в технологию рейдерства, иначе последнее не имело бы смысла), они не получили возмещения и в уголовном судопроизводстве, поскольку
институт гражданского иска вопросы права собственности не разрешает;
-
2) легализация денежных средств, полученных преступным путем, используемых затем в том числе и для финансирования терроризма, противоправный перевод безналичных денежных средств в наличную форму, а также их вывод за рубеж также причиняют государству ущерб, который исчисляется в сотнях миллиардов рублей 12. Потерпевших по уголовным делам о таких преступлениях нет, прокуратура гражданский иск в интересах государства не предъявляет, этот институт вновь не выполняет функции возмещения имущественного вреда;
-
3) в ряде случаев экономические преступления заканчиваются выводом похищенных денежных средств, прав на доли в уставных капиталах (акции) российских предприятий или недвижимое имущество, находящееся на российской территории, в номинальное владение юридических лиц, зарегистрированных в так называемых офшорных юрисдикциях 13. Возвратить это имущество законным владельцам фактически невозможно, такие гражданско-правовые институты, как, например, истребование из чужого незаконного владения, в рамках уголовного судопроизводства не используются, и гражданский иск в уголовном деле вновь не работает.
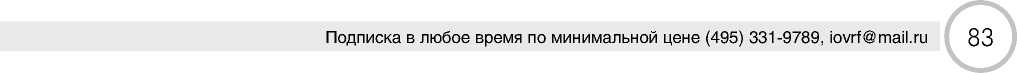
Есть еще немало ситуаций, когда институт гражданского иска в условиях современной, модернизированной экономической преступности не справляется с задачей возмещения причиненного преступлением имущественного вреда и она, безусловно, требует решения.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) нет отдельной нормы, посвященной гражданскому иску, его определение дано в статье 44 «Гражданский истец»: «требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен непосредственно преступлением».
Самой проблемной, по мнению автора настоящей публикации, является статья 54 УПК РФ, в соответствии с частью первой которой в качестве гражданского ответчика в уголовном деле может быть привлечено физическое или юридическое лицо в случаях, когда оно в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) несет ответственность за вред, причиненный преступлением.
В настоящее время практическое применение статьи 54 УПК РФ сведено к ситуациям, когда юридические лица в качестве гражданского ответчика привлекаются только по уголовным делам о преступлениях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями (далее – ДТП), когда они являются собственниками источников повышенной опасности – транспортных средств, совершивших ДТП.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (в редакции от 23 декабря 2010 года) разъяснил судам, что по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, должны привлекаться владельцы транспортных средств, на которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1079 ГК РФ возлагается обязанность по возмещению вреда, причинного источником повышенной опасности. Под владельцами источника повышенной опасности следует понимать организацию или гражданина, осуществляющего его эксплуатацию в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо по другим законным основаниям 14.
Однако в ГК РФ указаны и другие основания привлечения к гражданско-правовой ответственности за действия других лиц. Профессор А.В. Гриненко отмечает: «Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает возможность привлечения в качестве гражданских ответчиков иных, помимо обвиняемого, лиц в следующих случаях: 1) юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей (статья 1068 ГК РФ)» 15. Помимо этого, в части 2 указанной статьи предусматривается, что хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.
Наконец, часть 1 статьи 53 ГК РФ устанавливает, что юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы, к которым относится и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющий и т. д.).
К ним, естественно, относятся обязанности, возникающие из причинения вреда, в том числе в результате совершения преступления.
Представляется, что все указанные гражданско-правовые основания могут быть применены в уголовном судопроизводстве при решении вопроса о привлечении соответствующего лица в качестве гражданского ответчика, был бы заявлен гражданский иск.
Расширение оснований привлечения юридических лиц в качестве гражданских ответчиков, в частности, в правоприменительной практике может увеличить степень возмещения имущественной вреда, причиненного преступлениями в сфере жилищнокоммунального хозяйства, путем предъявления гражданского иска управляющей компании, руководитель которой совершил преступление. При завышении тарифов на коммунальные услуги, включении в счета на оплату фиктивных работ, незаконном использовании общедомовых территорий и совершении других подобных преступлений гражданскими истцами в уголовных делах могут быть жильцы многоквартирных домов, часть которых – ветераны, пенсионеры – являются представителями так называемых малообеспеченных слоев населения, для которых взысканные с управляющих компаний денежные средства стали бы ощутимой материальной поддержкой.
Не менее важное значение имеет еще один аспект гражданско-правовой ответственности в связи с осуществлением уголовного судопроизводства. Противодействие регистрации и использо- ванию фиктивных юридических лиц (фирм-«однодневок»), активно ведущееся в настоящее время, представляет собой всего лишь борьбу с последствиями. Действительные владельцы теневых структур, состоящих из фиктивных юридических лиц, то есть истинные получатели преступной выгоды, часто остаются за пределами уголовного судопроизводства.
Неоднократно упоминалось, что Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнена новым абзацем (тринадцатым) следующего содержания: «бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».
Кроме того, суды арбитражной юрисдикции формируют судебную практику в части привлечения лиц, контролирующих финансово-хозяйственную деятельности коммерческих организаций, к субсидиарной ответственности 16.
Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения таких субъектов, как бенфициар и бенефициарный владелец, и в уголовное судопроизводство.
Алгоритм противодействия незаконному обогащению бенефициарных владельцев представляется двухзвенным:
-
1) если бенефициарный владелец сознает общественную опасность действий контролируемого им юридического лица и желает наступления общественно опасных последствий (либо относится к ним безразлично), то он несет уголовную ответственность наряду с прочими субъектами преступления как организатор, соисполнитель, пособник, подстрекатель и т. д.;
-
2) если умысел на совершение преступления отсутствует или он следствием не доказан, однако преступный характер получаемой контролируемым юридическим лицом выгоды был очевиден для бенефициарного владельца, то при наличии гражданского иска в уголовном деле его необходимо привлекать в качестве гражданского ответчика.
Нельзя не обратить внимания на важный аспект: любые меры имущественных взысканий имеют эффект только тогда, когда они обеспечены. Главным (и юридически единственным) средством обеспечения гражданских исков в уголовном деле является арест имущества. В вопросе возмещения потерпевшему имущественного вреда арест имущества как средство обеспечения этого возмещения занимает одно из главных мест, в связи с чем сторонами процес- са этому следственному действию всегда уделяется повышенное внимание.
Характер имущественного оборота предполагает динамичность перехода права собственности на те или иные объекты, в особенности это присуще криминальному сектору экономики. Похищенное имущество в минимально короткие сроки переходит «из рук в руки» через заранее подготовленную цепочку фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц, уходя в конечном итоге в какие-либо офшорные юрисдикции или оказываясь в номинальном владении так называемого добросовестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ). Это относится и к хищению денежных средств (например путем направления в банк ложного платежного поручения 17), и к хищению акций или иных ценных бумаг (примерно аналогичным образом 18), и к завладению путем обмана правами на недвижимое имущество 19.
Только наложение ареста в минимально короткие сроки может предотвратить причинение ущерба.
В период противодействия рейдерству, в начале 2000-х годов, возник своего рода следственный прецедент. В целях необходимости предотвращения перехода от одного подставного лица к другому похищенного имущества оно должно быть арестовано, и чем быстрее, тем это бу-
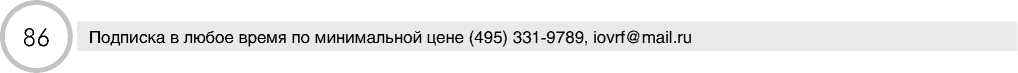
дет эффективнее. Буквально, это должно быть сделано на следующий день после возбуждения уголовного дела. Говорить о наличии подозреваемого или обвиняемого на этой стадии весьма проблематично. В связи с этим, когда следователь возбуждал перед судом ходатайство о наложении ареста в порядке части третьей статьи 115 УПК РФ на имущество, находящееся у третьих лиц, при наличии основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, у некоторых судов имелось формальное основание отказать в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием пресловутого подозреваемого или обвиняемого. Доводы следствия о том, что преступные действия не могли совершиться сами собой и недвижимое имущество не могло само по себе по подложным документам выбыть из владения законного собственника и перейти в собственность фирмы, имеющей явные признаки фиктивности, и что обязательно есть лицо, пока не установленное следствием, которое эти действия совершило, во внимание не принимались. Так права на недвижимость, доли в уставных капиталах и акции уходили к так называемым добросовестным приобретателям, и крайне редки случаи возврата их к потерпевшим (прежним законным собственникам).
В то же время другие суды не акцентировали внимание на том факте, что в уголовном деле, возбужденном два или три дня назад, нет еще обвиняемого или подозреваемого, и ходатайства следствия о наложении ареста удовлетворяли. Особо удивительно, что это могло произойти в одном и том же районном суде, а судьи (удовлет- воривший и отказавший) располагались в соседних кабинетах 20.
Практика породила свой способ обеспечения возмещения имущественного вреда потерпевшим. Как предмет преступного посягательства в соответствии с частью 1 статьи 81 УПК РФ здание, правами на которое завладели рейдеры, признавалось вещественным доказательством, а затем следователь в порядке части 2 статьи 82 УПК РФ передавал его на ответственное хранение потерпевшему до решения суда. Указанное постановление давало основание потерпевшему взять здание под контроль (фактически, как это ни странно, осуществить рейдерский захват наоборот), а затем, находясь в объекте, спокойно и планомерно вести судебные процессы по возврату права собственности на него.
Подмена ареста на имущество комплексом процессуальных действий, не связанных с обращением в судебные органы, конечно, не может положительно оцениваться теорией уголовного процесса с точки зрения иерархии процессуальных актов судебных и следственных органов, даже если она совершена в интересах защиты прав потерпевшего. Этот вопрос, безусловно, нуждается в более тщательном исследовании и теоретическом осмыслении, но его наличие уже сейчас свидетельствует о проблеме (причем пока всего лишь одной), которая заложена в само ́ м институте наложения ареста на имущество.
Проблема ареста имущества, находящегося у третьих лиц, в отсутствие обвиняемого, подозреваемого, не отпала. Она возникает периодически в следственной практике, и представляется, что ее реше- ние лежит на поверхности – достаточно из диспозиции части 3 статьи 115 УПК РФ, оставив фразу «в результате преступных действий», исключить всего лишь два слова «подозреваемого, обвиняемого», и суды при рассмотрении ходатайств следователей о наложении ареста на имущество не будут связаны наличием или отсутствием в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого.
Правоприменительная практика расследования криминальных деяний в сфере экономики ставит новые проблемы в части применения такой меры, как арест имущества. Как уже упоминалось, одной из актуальнейших проблем современности стала борьба с незаконными финансовыми операциями – противоправным переводом безналичных денежных средств в наличную форму («обналичкой»), выводом денежных средств за рубеж, легализацией (отмыванием) преступно полученных доходов и т. д., и т. п.
При проведении реализации материалов оперативной разработки о незаконной банковской деятельности и наложении ареста на денежные средства на расчетных счетах фирм, задействованных в финансовых операциях, следователям дано директивное указание получать выписки об операциях по счету на начало банковского дня и на его конец. Дело в том, что в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 29 и части 7 статьи 115 УПК РФ арест может быть наложен на конкретную денежную сумму на расчетном счете, а операции по расчетному счету не приостанавливаются. И, как утверждают следователи, если в ходе следственных мероприятий не удалось завладеть электронным ключом от системы «банк-клиент», то иногда общий объем денежных средств, прошедших через расчетный счет уже выявленной фирмы-«однодневки», за один банковский день может в разы превышать арестованную в начале дня сумму.
Нельзя не проанализировать следующую по порядку, но не по значению, статью 116 УПК РФ «Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги».
Конечно же, обвиняемый в преступлении общеуголовной направленности, убийстве, грабеже, разбое, хранении, перевозке или сбыте наркотических средств и их прекурсоров может иметь в собственности ценные бумаги, и это нельзя не учитывать и в законодательстве, и в практике. Но все же следует признать, что это явление достаточно редкое. Скорее всего, незаконные операции с ценными бумагами, в результате чего они попадают в собственность обвиняемого или подозреваемого, – особенность совершения преступлений экономической направленности. И уж во всяком случае арест ценных бумаг, находящихся у третьих лиц, если они получены в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, – безусловный и исключительный предмет особого порядка судопроизводства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности.
Здесь следует отметить две особенности.
Во-первых, согласно части 1 статьи 116 УПК РФ арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг. Законодатель обратил внимание на то, что в ряде случаев ценные бумаги могут быть бездокументарными. Права акционера регистрируются в реестре акционеров соответствующего юридического лица, а могут регистрироваться и в депозитарии, который при этом будет номинальным держателем.
Во-вторых, согласно части 4 указанной статьи порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается федеральным законом.
По информации автора, пока такого федерального закона нет, но важно не это. Главное то, что ценные бумаги – весьма хлопотный предмет для ареста. Мало их арестовать, нужно не пропустить срок их погашения, конвертации – обмена (если такой срок в принципе существует), а кроме того, вовремя получить по ним дивиденды и куда-то их определить, скорее всего, также арестовать. А по некоторым облигациям выплачивается купонный доход, чаще всего ежеквартально, то есть следователю раз в три месяца придется ходить в суд.
Вместо определенного статичного фактора (арест – фиксация) появляется фактор динамического характера.
Кроме того, неизбежно возникает родственный объект гражданско-правового оборота – доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Фактически этот объект выполняет роль, во многом сходную с акцией, – удостоверяет право ее владельца участвовать в управлении обществом, а по результатам отчетного периода дает право на получение дивидендов из прибыли общества.
Еще в 2006 году автор настоящей публикации предлагал в текст статьи 116 УПК РФ наравне с ценными бумагами внести и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ 21. Однако практика пока идет по старой проторенной дороге – доли в уставном капитале арестовываются в порядке статьи 115 УПК РФ, по сути дела, как имущественный объект.
И последнее. Возвращаясь к проблематике ареста денежных средств на счетах фирм-«однодневок», использованных в осуществлении незаконных финансовых операций, нельзя не отметить, что указанные образования не отвечают требованиям хозяйствующих субъектов. Они заведомо создаются не для осуществления предпринимательской деятельности, а для проведения противоправных операций, хотя и направленных, кстати говоря, на получение прибыли (криминального характера). Их участники и руководители не понимают или не желают понимать истинный характер финансовой деятельности. Управляет такими юридическими лицами некий «кукловод», действия которого все чаще и чаще квалифицируют по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Любой практик, неискушенный в теоретических изысканиях, скажет, что такое юридическое лицо имеет явный преступный характер. Именно в связи с этим в Следственном департаменте МВД России появилась концепция признания фиктивного юридического лица орудием (средством совершения) преступления. В этой ситуации фиктивное юридическое лицо подпадает под действие пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, согласно которому орудия преступления подлежат конфискации. Разумеется, нельзя конфисковать юридическое лицо в силу его невещественной природы, но денежные средства на его расчетном счете, «пойманные» в ходе пресечения незаконной финансовой операции, под действие указанной правовой нормы подпадают. В этой ситуации облегчается арест таких денежных средств, поскольку суду не надо доказывать, что они попали к третьему лицу (которое к тому же является фиктивным) в результате преступных действий обвиняемого или подозреваемого, а подлежат конфискации, то есть правовым основанием ареста выступает часть 1 статьи 115 УПК РФ, которую суды воспринимают гораздо лучше, чем пресловутую часть 3.
Механизм процессуальных действий с фирмами-«однодневками» также предусматривает прекращение деятельности такого незаконного субъекта права по приговору суда. Причем рассматривалось несколько вариантов:
-
• ликвидация через суд гражданской юрисдикции;
-
• исключение его из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в порядке статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
-
• внесение в ЕГРЮЛ записи о том, что такое юридическое лицо приговором соответствующего суда признано орудием (средством совершения) преступления, а данные о его участниках (учредителях) и единоличном исполнительном органе – недостоверными.
На совещании с представителями Федеральной налоговой службы наиболее предпочтительным был признан третий вариант, с учетом того, что установлены факты неоднократного использования одних и тех же фиктивных юридических лиц разными преступными группами в разных незаконных финансовых схемах. Исключить такое юридическое лицо из ЕГРЮЛ значит стереть информацию, имеющую криминалистическое значение для возможного раскрытия преступлений прошлых лет.
В то же время предполагается, что сейчас любой добросовестный предприниматель, заключая договорные отношения или вступая иным образом в деловой контакт с предприятием, проявляя должную осмотрительность, поинтересуется записями о нем в ЕГРЮЛ. Если же, несмотря на запись о признании орудием преступления, некое лицо начало хозяйственные отношения с таким юридическим лицом, то a priori можно подозревать в этих отношениях криминальный контекст.
Сейчас предложения находятся в стадии согласования с заинтересованными ведомствами.
Подводя итог сказанному, отметим, что в 2009–2012 годах законодателем принято несколько законодательных актов, которые ввели в УПК РФ нормы, посвященные процессуальным особенностям проведения проверки сообщения о преступлении, воз- буждения, расследования, прекращения и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности 22. О них неоднократно писалось ранее. Автор настоящей публикации является сторонником объединения всех этих новелл в дифференцированный порядок судопроизводства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности.
Однако, учитывая главную особенность указанной категории преступлений – их строго имущественный характер, в рамках дифференцированного порядка судопроизводства также следует урегулировать все вопросы, связанные с возмещением имущественного вреда, причиненного потерпевшему и государству, а главное, модернизировать перечисленные институты, регулирующие в уголовном судопроизводстве эту сторону процессуальной деятельности (гражданский иск, арест, конфискация имущества), таким образом, чтобы они соответствовали вызовам времени и были в состоянии бороться с проявлениями теневой экономики самого сложного и современного типа.
Список литературы Имущественный характер экономических преступлений и соответствующие процессуальные последствия
- О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 450/85/3
- О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 февраля 2012 года № 52-11/2
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ
- Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М.: Политиздат, 1959. Т. 13