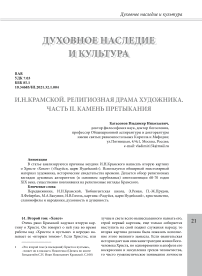И.Н. Крамской. Религиозная драма художника. Часть II. Камень претыкания
Автор: Катасонов Владимир Николаевич
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются причины неудачи И.Н.Крамского написать вторую картину о Христе «Хохот» («Радуйся, царю Иудейский»). Используется обширный эпистолярный материал художника, исторические свидетельства времени. Делается обзор религиозных взглядов духовных авторитетов (в основном зарубежных) интеллигенции 60-70 годов XIX века, существенно повлиявших на религиозные взгляды Крамского.
Передвижники, и.н.крамской, тюбингентская школа, э.ренан, п.-ж.прудон, л.фейербах, м.а.бакунин, н.в.гоголь, картина "радуйся, царю иудейский", христианство, славянофилы и народники, духовность и душевность
Короткий адрес: https://sciup.org/170177277
IDR: 170177277 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2021.32.1.004
Текст научной статьи И.Н. Крамской. Религиозная драма художника. Часть II. Камень претыкания
-
§1 . Второй том: «Хохот»
Очень рано Крамской задумал вторую картину о Христе. Он говорит о ней уже во время работы над «Христос в пустыне» и нередко называет ее «вторым томом»1. Если Христос, или лучше в свете всего вышесказанного назвать его, герой первый картины, еще только собирается выступить на свой подвиг служения народу, то вторая картина должна была показать исполнение этого великого замысла. Если евангельская история дает нам описание трагедии жизни Богочеловека Христа, но одновременно и апофеоз его воскресения и искупления грехов человечества, то чисто гуманистическое понимание личности
Христа заслоняет для Крамского этот религиозный катартический смысл христианской трагедии. Кроме того, опыт личной жизни самого художника, наблюдения над перипетиями общественной жизни своего времени все более наполняют его душу горечью разочарования и ядами пессимизма. Сложности отношения с Академией художеств, трудности взаимоотношений внутри организованного в 1870 году Товарищества передвижных художественных выставок наполняют жизнь Крамского постоянным напряжением. Разгул правительственной реакции после покушения 1866 года на императора Александра II не оставляет надежд на смягчение политического климата. Идеалы шестидесятых годов блекнут на фоне новой капиталистической действительности России: новый хозяин из разбогатевших купцов или крестьян, «чумазый» по определению Бакунина, оказывается еще большим эксплуататором, чем вчерашний помещик. Революционно-демократическое движение, которым живет и дышит интеллигенция, являет вдруг события и фигуры (С.Г.Нечаев, «Чигиринское дело»), полностью дискредитирующие его исходный гуманистический смысл… Трагическая нравственная подоплека всех жизненных событий становится все более актуальной для художника.
Крамской был прекрасным преподавателем, об этом свидетельствуют воспоминания многих его учеников2. Из этих воспоминаний видно также, что в общении с учениками для него было важно не только обсуждение профессиональных вопросов художнического ремесла, но и общие вопросы жизни. Прекрасный психолог, чуткий друг, великолепный стилист, в своих письмах он не только помогает становлению молодых талантов, как художников, но и поучает их нравственно. Для нас эти письма важны и потому, что в них мы видим отражение его собственной мировоззренческой позиции, ее ориентиров и трансформаций. Так, в письме к своему молодому ученику Ф.А.Васильеву Крамской делится своим восприятием жизни, созревшим у него в начале 70-х годов. «…Я скажу, что письма Ваши доставляют мне больше, чем Вы думаете. Я с са- мым глубоким интересом слежу за всем, что происходит в Вашей душе. Ведь Вы все-таки продолжаете быть для меня открытым инструментом; не закрывайте его, ради Бога, не закрывайте. Вы не в дурные руки пишете письма. Ведь если Вам тяжело и дурные мысли лезут Вам в голову, если для Вас открывается изнанка вещей, изнанка человеческих мыслей и поступков, и скверные предчувствия неотступно тревожат Вас, то я, мой дорогой, уже давно во все глаза смотрю на мир Божий. Сначала как будто жутко, словно могила перед тобою, потом… потом привыкнешь и уже ничего не ждешь. Страшно созреть до той высоты, на которой остаешься одинок. Лучше, кажется, как бы был свинья и животное только, чавкал бы себе спокойно, валялся бы в болоте – тепло, да и общество бы было. Сосал бы себе спокойно свой кус и заранее намечал бы себе, у которого соседа следует оттягать еще кус, а там еще и еще, и наконец, свершивши все земное, улегся бы навеки; понесли бы впереди и шляпу, и шпагу, прочие свиньи провожали бы как путного человека – трудно, но вперед, без оглядки! Были люди, которым еще было труднее, вперед! Хоть пять лет еще, если хватит силы, больше едва ли, да больше, может быть, и не нужно»3.
«Ничего не ждешь», но «вперед!» Эта стоическая, и даже хочется сказать, героическая позиция Крамского характерна для него. Он удручен, но не сдается, его поддерживают героические образы прошлого, людей, «которым еще было труднее». Он никогда не мог ограничиться только живописью. Да и живопись для него должна иметь смысл более глубокий, чем просто радовать глаз профана, или дать пищу самодовольным рассуждениям профессионального критика. У Крамского художника слишком много рефлексии для того, чтобы просто рисовать. Он сам прекрасно знал эту свою черту. «Чему я учился, - пишет он Репину в 1874 году, - Едва ли уездное училище досталось на мою долю, а с этим далеко не уедешь… всякий сюжет, всякая мысль, всякая картина разлагалась без остатка от беспощадного анализа. Как кислота всера-створяющая, так анализ проснувшегося ума все во мне растворял… и растворил. Кажется, совсем… больно трогать груду… Год за год я все готовился, все изучал, все что-то хотел начать, что-то жило во мне, к чему-то стремился. Я себя знаю – хорошо знаю»4. Поэтому разговор об искусстве, о его истории и современных тенденциях постоянно поворачивается Крамским к более общим философским и жизненным проблемам. И не часто находит он здесь согласие и поддержку… В октябре того же года Крамской пишет к Репину: «Но есть у Вас в письме одна штучка, которую я, по свойственной мне манере, не могу обойти молчанием, вперед сообщая, впрочем, что я имею мрачный взгляд на вещи, и, стало быть, мы, может быть, не согласимся. Вы говорите, что теперь «погибель не так страшна, как в варварские времена, времена всевозможных нашествий, порабощений и проч.…» Верно – теперь трудно ждать нашествий варваров (хотя это еще не гарантировано пока), но появляется, растет и зреет нечто более опасное, чем варвары внешние, растут и плодятся варвары внутренние; думаю, что в моем мнении нет ничего парадоксального: разве не варварство – поголовное лицемерие, преобладание животных страстей, ослабление энергии в борьбе с жизненными неудобствами, желание все добыть поскорее путем мошенничества, прокучивание общественного (народного) богатства, лесов, земли, народного труда, за целые будущие поколения… попробуйте узнать, что стоит тайлер, франк, рубль какого-либо правительства, попробуйте погасить долги, колоссально разрастающиеся во всяком государстве, потребуйте уплаты долгов от всяческих компаний, акционерных обществ, фабрик, заводов, и Вы увидите, что эта милая цивилизация, для того, чтобы не объявить себя банкротом, должна забираться в Среднюю Азию, Африку, к диким племенам далеких пространств, и обирать, порабощать, убивать, или, еще лучше, развращать всех этих наивных животных, которых численность еще превосходит в десять раз цивилизованные общества. Вот почему еще есть ресурсы и для правителей, есть ресурсы и для буржуазии на целые десятки, а может, и сотни лет жуировать и услаждать себя всячески; а что будет потом! Нам какое дело! На наш век хватит! Если попадется из этой громадной ватаги какой-нибудь дурак, или просто оплошает, исход лег- кий: приставил дуло к любому месту, да и там. Чудесно! И легко, и скоро, и восхитительно! Вы скажете, «наивный человек, когда ж этого не было? Всегда были мошенники, и всегда человек был скотина!» Верно, а что ж я говорю? Я то самое и доказываю: всегда было скверно, чуть-чуть получше, чуть-чуть похуже, а потом плохо и… конец. Да, конец. Сколько уж было концов? Много! Не миновать его и цивилизации, только для нее история, конечно, будет не так глупа, чтобы взять знакомую развязку, скучно стало бы, да и догадаются… эффект пропадет…[курсив мой В.К.]»5. И в свете этой картины взгляд Крамского на задачи художника: «А впрочем, к чему это? Вы уже излечились от всеразлагающего анализа… и завидую Вам… ей-богу, завидую… Это очень тяжелая штука, тем более, как Вы говорите, далеко отсюда до поэзии… Это верно… Очень далеко от поэзии здоровья, счастья и силы, но очень недалеко от… трагического, и, смею думать, всякому своя поэзия, только чувствуй, а не притворяйся… а там не наше дело говорить: вот это поэзия, а это нет, ничего, чему быть, тому не миновать! <…> Я говорю только художнику: ради Бога чувствуй! Коли ты умный человек, тем лучше; коли чего не знаешь, не видишь, брось… Пой как птица небесная; только, ради Бога, своим голосом! Неужто эта такая дурная теория?..»6.
Теория недурна, но настроение у Крамского действительно трагическое. Студенческие протесты 1868-1869 годов и жестокая реакция на них властей; разгром «чайковцев» и других кружков и объединений; изуверские методы следствия и каторжные приговоры, - все это не оставляло никакой надежды на мирный диалог демократической общественности с властями. Разгром Парижской коммуны в 1871 году русская революционно-демократическая молодежь также восприняла как собственное поражение. Этому способствовало и то, что в защите коммуны участвовали русские и польские эмигранты (Е.Л.Дмитриева, П.Л.Лавров, Я.Домбровский). В 1874 году под влиянием многолетней революционной пропаганды в России начинаются «хождения в народ». Властители дум русской интеллигенции, Чаадаев, Чернышевский, До- бролюбов, Бакунин, Лавров убедили ее, что социальная революция в России возможна только тогда, когда поднимется на борьбу крестьянство. Но крестьянство нужно разбудить от его обывательского сна, революцию нужно поджечь, нужно показать крестьянину его путь к социализму… И сотни молодых людей, в основном студентов, из самых разных сословий, отправились в деревню для пропаганды социализма, распространения запрещенной литературы. Результат для самого крестьянства был почти нулевой, крестьянин продолжал свою обычную жизнь в труде, в заботе о куске хлеба насущного; разбудить нового Стеньку Разина не удалось. Для «ходебчиков» же в народ это закончилось трагически: в ходе расследований 1873-1877 годов было арестовано около 4000 человек, привлечены к дознанию 770, к следствию 265 человек. Арестованных содержали в тюремных казематах, где к началу процесса 193, из них умерло 43, покончили с собой 12, а 38 сошли с ума… В результате сознательно организованный показательный суд приговорил 28 человек к каторге, 36 к ссылке, и остальных к менее тяжелым формам наказания. Процесс оказал огромное влияние на общественную жизнь России, но, к сожалению, скорее, не в том направлении, в каком задуман он был его организаторами.
Все эти события глубоко трогают Крамского, наполняют его душу горечью и разочарованием. Созерцание этой неравной борьбы правительства и народников вызывает естественную аллюзию на евангельскую трагедию. В особенности потому, что обе стороны считают себя христианами. Государственная власть понимает себя как хранительницу православия, а революционеры, - ведь почти все крещены в православии! – также понимают свое дело как продолжение дела Христа. Хотя, конечно, Христа нецерковного, с протестантским «акцентом», по немецким прописям… Но тем не менее. Даже бывший народник А.И.Желябов, позже вместе с другими народовольцами подготовивший убийство императора Александра II, на процессе 1881 года на вопрос о вероисповедании отвечал: «…Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истинность и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дела мертва есть, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и, если нужно, то за них и пострадать. Такова моя вера»7. «Бороться за правду», – прекрасно! но вопрос, какими методами… Так, гуманистически перетолкованного Христа мы видим на знаменах почти всех революций Нового времени.
В такого же гуманистического Христа, учение которого можно полностью свести к нравственности и психологии, верит и Крамской. В любопытном письме к А.Д.Чиркину8, написанному вскоре после первой выставки «Христос в пустыне», художник дает как бы очерк своей «христологии». «Фигура Христа, – пишет он в письме9, – меня очень давно преследовала. Евангельский рассказ, какова бы ни была его историческая достоверность, есть памятник действительно пережитого человечеством психологического процесса, мало того, все, что искренние его последователи внесли от себя впоследствии, что стало потом традициями, все имеет уважения». Однако традиционное, т.е. церковное понимание Христа и христианства, не удовлетворяет Крамского. «…Я скажу, что христианство, с момента своего появления до настоящего времени, никогда не было не только усвоено человечеством органически, но даже и понято правильно не было. Я не говорю об отдельных личностях, сравнительно очень и очень малочисленных, к сожалению»10. Что же не удовлетворяет художника в церковном образе Христа? – В частности, это акцент на его божественности и чудесах. «Говорят, Христос есть идеал, больше – Бог. Хорошо. Отчего же все, что он сказал, что он сделал, возможно и понятно? А чудеса? А рождение? А воскресение?»11 Крамской считает, что все чудесное и сверхчеловеческое в Евангелии есть мифотворчество, и что самое главное совсем не в этом. «…Вопрос о чудесах разрешается срав- нительно легко. По элементарной человеческой логике и особенно восточной, необыкновенный человек должен был и родиться необыкновенно; в этом нет ничего дурного, это только незнание. Пусть бы Христос делал чудеса, воскрешал мертвых, летал по воздуху, его бы оставили в покое; никто из власть имеющих и никто из заурядных смертных, особенно в то смутное и богатое предчувствиями время, не стал бы ни нападать, ни защищать. Подобных людей было много около того времени»12. Самое главное, керигму Евангелия, как сказали бы мы сегодня, Крамской усматривает именно в нравственной проповеди Христа. «…Совсем другой разговор, когда находится такой чудак, который будит заснувшую совесть, рекомендует поступать так, как в человеческом сердце написано творцом (и мы это все, скажем потихоньку, чувствуем), и когда мы пытаемся уверять его, что совершенство только в Боге, а он нам на это собственным личным опытом докажет наше лицемерие и нанесет поражение; будет вечным укором, и никакое оправдание перед нашей личной совестью, мы знаем, не может быть уважено, тогда другое дело. Компромисс невозможен, и каждый принимай, что посеял. Снести это нельзя: повесить»13.
Крамской рассказывает, что, прежде чем он написал «Христа в пустыне», он внимательно продумывал всю, так сказать, психологию своего героя. «…Дело в том, что перед ним с высоты однажды раскрылась панорама сел, деревень, городов… пойти направо, пойти налево? Если я пойду налево, все это будет мое, оно может быть мое, я чувствую в себе присутствие страшной силы ума, таланта, и, наконец, у меня страсти… и кто меня уличит впоследствии в узурпации, я буду мудро править, а человечество пусть несется к погибели, но…то, что сидит во мне, мой внутренний голос (отец мой, как он его называл) – от него никуда не уйдешь, ничего не скроешь, и я, зная выход, не скажу его. И кто же, кто сделает это дело? Странное дело, я видел эту думающую, тоскующую, плачущую фигуру, видел как живую»14. Все это глубоко продумано у Крамского, и можно бы было, действительно, понять как некую интерпретацию искушения Христа дьяво- лом в пустыне. Если бы не концовка этого письма: «…Мне кажется, что еще наступит время для искусства, когда необходимо надо пересмотреть и перерешить прежние решения, потому что ведь Христос есть в сущности самый высокий и возвышенный атеист, он перенес центр божества извне в самое средоточие человеческого духа, кроме того, доказав возможность человеческого счастья чрез усилия каждой личности над собою, и победив самого сильного врага – собственное Я, он сделал невозможным оправдание в наших подлостях, никакими мотивами, сказавши вдобавок «имеяй уши слышати, да слышит»»15. Крамской, сам человек глубоко нравственный, и требовавший этого и от других, ясно слышит Евангельский призыв: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5:48)». И верит словам Христа: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит…(Ин.14:12)» И все возможно верующему, все чудеса, все исцеления, власть над всей природой!.. Но не просто усилиями личности над собой, не просто победой над себялюбием, как учит Церковь, а силою Божией, синергией человеческой и Божественной воли. Продолжение этого места из Евангелия от Иоанна так и говорит: «…дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю (Ин.14:12-14)». У Крамского весь акцент на личных усилиях человека. Конечно, этот человек слышит внутренний голос, но это только голос, человек остается одинок в своем подвиге, своеобразное несторианство… И этими усилиями, де, возможно достигнуть человеческого счастья. Счастье без Бога… Крамской не хочет слышать евангельское «без меня не можете творити ничесоже»: « Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего (Ин.15:5)». И разве Я действительно самый сильный враг?.. И полное самоуничижение может быть совместимо с демонской гордыней. И воля человеческая так ли сильна?.. Апостол Павел пишет: «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (Рим.7:21-25)». Но для Крамского, наверное, апостол Павел не авторитет; он принадлежит, скорее, к тем последователям, которые внесли в евангельское христианство что-то от себя… Вполне в духе последователей Тюбингенской школы. Вот и получается у нашего художника, что Христос – возвышенный атеист, перенесший божество внутрь человеческого духа. А не так, как призывает христиан Церковь, перенести себя внутрь Христа - Богочеловека. Как назвал свою книгу святой Иоанн Кронштадский «Моя жизнь во Христе».
-
§2 . «Немцы»
«Немцы на этот счет молодцы», – замечает Крамской, после своих восхвалений атеизма. Каких же немцев имеет он в виду? Какие же европейские властители дум популярны в это время? На слуху у всех немецкие богословы и философы: Д.Штраус, Ф.Баур, Л.Фейербах, Ф.Шлейермахер, М.Штирнер, Б.Бауэр. Кроме того, с 60-годов становится популярным Э.Ренан. Читают в России и К.Маркса, и Ф.Энгельса.
Мы приводим цитаты из трудов некоторых из этих авторов, чтобы показать, чем питалась мысль революционно-демократической общественности того времени, какие идеи повлияли, в частности, и на мировоззрение Крамского. Здесь не место давать критику этих авторов, поэтому цитаты, иногда довольно объемные, приводятся с минимальным комментарием. Целью было показать умственную и духовную атмосферу, в которой проходила жизнь нашего героя.
Конечно, звезда Тюбингентской богословской школы протестант Давид Фридрих Штраус (1808 – 1874) был одним из популярнейших. Штраус начал радикальную историческую критику Евангелий. Свое дело Штраус понимал как продолжение и углубление дела Лютера, дела Реформации. «К продолжению дела Реформации ныне столь же властно понуждает состояние образованности, как 350 лет тому назад состояние образованности же понуждало приступить к ее началу. Теперь мы тоже переживаем кризис, и тем более мучительный, что нам, как и нашим предкам, одна часть действующего христианского учения стала в такой же мере несносной, в какой другая осталась необходимой. Но век Реформации имел хотя то преимущество, что несносный элемент он видел, главным образом, в учении и практике церкви, тогда как собственно библейское учение и строй церкви, упрощенный в духе указаний Библии, его вполне еще удовлетворяли. При таких условиях критическое выделение пригодных элементов представлялось делом сравнительно легким, и так как народ продолжал еще считать Библию неприкосновенным сводом божественных откровений и спасительных поучений, то и сам кризис был не опасным, хотя и бурным. Теперь, наоборот, сомнению подвергнуто даже то, что протестантами того времени еще признавалось, Библия, с ее историей и учением; даже в Библии мы стали теперь отличать истинное и обязательное для всех времен от всего того, что зиждилось лишь на представлениях и отношениях определенного момента и что нам стало теперь представляться непригодным и даже неприемлемым»16.
В 1835 Штраус издал свою книгу «Жизнь Иисуса», которая вызвала шквал отзывов, критики и положила начало возникновению нового направления в богословии. В 1864 году Штраус выпустил второе издание своей книги, специально приспособленной для чтения широких слоев публики. Главной задачей было очистить исторический образ Христа от мифологических наслоений, развести Христа исторического и Христа легенды. Уже само название его книги, вызвавшее бурный интерес и породившее скандалы, говорит об этом: «Жизнь Иисуса», не жизнь Иисуса Христа, а жизнь исторического человека Иисуса. Ближайшим образом это очищение евангельской истории от мифологии означает критику рассказов о всех чудесах, совершаемых Христом. Чудеса, согласно Штраусу, есть рудименты старой ветхозаветной религии иудеев, проникшие в христианство под влиянием апостола Павла. Эти иудейские начала замутнили в истории христианской церкви чистое учение Христа, которое немецкий богослов и хочет восстановить. «Необходимым и приемлемым признается в христианской вере то, чем она избавила человека от чувственной религии гре- ков, с одной стороны, и иудейской религии закона - с другой; стало быть, с одной стороны - вера в то, что миром управляет духовная и нравственная сила, и, с другой стороны, убеждение в том, что повинность, которую мы обязаны отбывать по отношению к этой силе, может быть только духовной и нравственной, как и сама сила, повинностью сердца и ума <…> Пока христианство будет рассматриваться как нечто данное человечеству извне, а Христос - как пришелец с небес, пока церковь Христа будет считаться учреждением, служащим для освобождения людей от грехов посредством крови Христовой, до тех пор и сама религия духа будет религией недуховной, и христианское учение будет пониматься по-иудейски. Только тогда, когда все признают, что в христианской вере человечество лишь сознало себя глубже, чем в былое время, что Иисус – лишь человек, в котором это углубленное самосознание впервые превратилось в силу, определяющую его жизнь и существо, что освобождение от грехов обретается усвоением такого образа мыслей и восприятием его в собственную плоть и кровь, только тогда христианское учение будет действительно пониматься по-христиански (курсив мой – В.К.) »17.
Сверхъестественное, чудеса невозможны – это аксиома, из которой исходит Штраус. «Чудом, – пишет он. – обыкновенно именуется явление, которое необъяснимо с точки зрения действия и взаимодействия конечных причин; оно представляется эффектом непосредственного вмешательства высшей бесконечной причины, или самого Бога, и имеет целью проявить существо и волю Бога во Вселенной, ввести Божьего посланника в мир, поддерживать и направлять его в жизни и деятельности и аккредитовать перед людьми»18. Причем, это взаимодействие конечных причин рассматривается Штраусом в свете современной ему науки, как будто наука уже выяснила все основания сущего. Вся работа Штрауса проникнута этим чванливым позитивистским взглядом на науку, делающим из ее актуальных положений истину в последней инстанции. Для нас сегодня, когда наука показала в своей истории такое множество «зигзагов», что однозначно утверждать, что нечто принципиально невозможно на научных основаниях уже не приходится, по- добные убеждения неубедительны. И исторически, и методологически наука сегодня гораздо более партикулярное предприятие, чем это казалось позитивистски настроенным мыслителям первой половины XIX века.
Принципиальный для христианства факт воскресения Христа Штраус опять интерпретирует как перенесение на исторического Иисуса обетований, высказанных в Ветхом завете Давидом, Исайей и др. «Следовательно, после смерти Иисуса между его последователями и иудеями-староверами установились своеобразные отношения. Последние говорили: ваш Иисус не мог быть Мессией уже потому, что Мессии предуказано жить вечно или после продолжительного мессианского господства умереть вместе со всей земною жизнью вообще, а ваш Иисус умер позорной и преждевременной смертью, не совершив ни единого из мессианских подвигов. На это первые возражали: так как наш Мессия умер преждевременно, то пророчества, приписывающие Мессии вечную жизнь, должно понимать в том смысле, что его смерть не есть пребывание в преисподней, а только переход к высшей жизни у Бога, после чего он в свое время вернется опять на землю и завершит вами прерванное дело»19. Многочисленные явления Христа после Воскресения, описанные в Новом завете, есть, по Штраусу, видения, обусловленные чисто психическими и не очень здоровыми причинами.
Французским последователем Штрауса и Тюбингенской школы был Жозеф Эрнест Ренан (1823 -1892) — французский историк религии, теолог, семитолог, член Французской академии. В 1863 году он во время научной командировки в Палестину написал свою знаменитую книгу «Жизнь Иисуса». Пафос этой книги был тот же, что и у Штрауса: рассказать историю человека Иисуса, основателя христианства, показать, анализируя четыре Евангелия, что все божественные черты Иисуса суть лишь легенды, возникшие благодаря религиозной и культурной ситуации своего времени. Но стиль Ренана существенно отличался от сухого научного стиля Штрауса. «Жизнь Иисуса» французского ученого написана ярким, образным языком, за который книгу не раз называли «романом о Христе». Именно благодаря этому труд Ренана получил сразу огромную
19 С.201.
популярность в самых широких кругах общественности. Во время своей поездки в Париж в 60-х годах Крамской встречался с Ренаном, и тот подарил ему подписанный экземпляр «Жизни Иисуса». Книга Ренана много раз переиздавалась.
Все чудеса, творимые Христом, включая и его собственное Воскресение, суть для французского исследователя мифы, приписанные ему учениками и последователями. В сгущенной духовнорелигиозной атмосфере Иудеи того времени уже сложились необходимые черты страстно ожидаемого Мессии. Он должен быть исцелителем, чудотворцем, учителем, он должен был быть преследуем официальной церковью, должен был быть убит и воскреснуть. Христос, по Ренану, как бы насильно подчинялся этому идеалу народа. Фундаментальный факт Воскресения Христова, согласно Ренану, обязан был своим возникновением чисто психологической стихии. «Что же произошло на самом деле? Вопрос этот мы исследуем при обработке истории апостолов и расследовании источников происхождения легенд, относящихся к воскресению из мертвых. Для историка жизнь Иисуса кончается с его последним вздохом. Но след, оставленный Иисусом в сердцах его учеников и некоторых из его преданных друзей, был так глубок, что в течение многих недель он все еще как бы жил с ними и утешал их. Кто мог бы похитить тело Иисуса? При каких условиях энтузиазм, всегда легковерный, мог создать всю совокупность рассказов, которыми устанавливалась вера в воскресение? Этого мы никогда не будем знать за отсутствием каких бы то ни было документов. Заметим, однако, что в этом играла видную роль сильная фантазия Марии Магдалины. Божественная сила любви! Благословенны те моменты, в которые страстное чувство галлюцинирующей женщины дало миру воскресшего Бога (курсив мой – В.К.)!»20.
Для Ренана Иисус был гениальной личностью, чисто человеческие интеллектуальные и нравственные качества которой повлияли на его учеников и позволили создать новую религию. Христианство для Ренана есть религия возвышенной человечности. Все церковное догматизирование Евангельского откровения есть искажение аутентичного учения Иисуса. Свою работу французский историк понимал как реставрацию этого истинного христианства. Истинное христианство выступает как некая гуманистическая религия, и Иисус является ее самым ярким проповедником.
Пьер-Жозе'ф Прудон (1809 - 1865) — французский публицист, экономист, философ, основатель анархизма, был членом французского парламента и первым человеком, назвавшим себя анархистом. Прудон много размышлял и писал об основателе христианской религии. К 60-м годам он подготовил книгу об Иисусе Христе, но в 1863 году вышла «Жизнь Иисуса» Ренана, и Прудон решил подождать с выпуском в свет своего труда. Вскоре он умер, и его размышления были напечатаны уже посмертно. Крамской знал французский язык, читал Прудона, а также, вероятно, статьи о нем в журналах.
В своих заметках о христианстве основатель анархизма часто критикует Штрауса и Ренана, но в главном он остается согласен с ними: Христос был только человеком, его мессианское призвание - результат последующей мифологии. Вообще Прудон рассматривает христианство в перспективе своей социальной философии: «Что есть христианство с точки зрения философии? Сплав религии и морали. Три великие общественные эпохи: примитивные культы, или разделенные религия, мораль и право; христианство, религия и мораль объединены; мораль отделенная и независимая от религии»21.
Так же как и у Ренана, мессианское достоинство было Иисусу, так сказать, навязано, чему он активно сопротивлялся. «Иисус анти-мессианист, он называет себя Христом только метафорически. Целью четырех Евангелий является ДОКАЗАТЬ, что он Христос. Для этой цели подбираются свидетельства Ветхого Завета; упорядочивают факты его жизни, его предсказаний, его страстей и его воскресения. Все это рассчитано, продумано, осмыслено, а не случайно, хотя в основе своей искренно. Так нужно было, чтобы Мессия был больше, чем идея, больше, чем просто доктрина; нужно было, чтобы он был человеком. Именно давление народного мнения, желание масс вынудило напи- сать жизнь Иисуса такой, какая она есть»22. А на самом деле, пишет французский философ, Божественное, сверчеловеческое измерение Иисуса есть фикция: «Иисус-Христос, Иисус Церкви и Евангелия есть не только человек, чьи жизнь, речи и действия были исправлены, дополнены и искажены; это персонаж, очевидно, идеализован-ный, поднятый мыслью на сверчеловеческую высоту, человек, чьи величие, образ, слово, сознание выходят за пределы обычного смертного»23.
Все чудеса, приписываемые Иисусу, есть дань традиции: ««Эти чудеса были предписаны заранее мнением людей: изгнание демонов, исцеление больных, хромых, безруких, парализованных, глухих, слепых, воскрешение мертвых и т.д. Все чудеса Иисуса были уже сделаны; он не смог бы сотворить других»24.
По мнению Прудона, после так называемой Великой французской революции его взгляд на христианство разделяет большинство французского народа. «После Революции Иисус более непонятен, по меньшей мере – во Франции. В моей семье я видел, как моя мать, мои тетки и т.д. читали Евангелия, и как благочестивые женщины следовали предписаниям проповедника из Назарета; сегодня народ не понимает больше Евангелия, и не читает его. Чудеса заставляют его смеяться, а остальное ему чуждо»25.
Людвиг Андреас фон Фейербах (1804 – 1872), благодаря своей книге «Сущность христианства» (1841), был одним из популярнейших авторов середины XIX века. Несмотря на цензуру, эту работу хорошо знали и в России, особенно после того, как в 1861 году в Лондоне А.И.Герцен инициировал ее перевод на русский язык.
Фейербах – атеист. Задача его «Сущности христианства» – показать, как возникает религия, как возникает христианство. Философ убежден в чисто психической основе генезиса христианской религии. Человек создает Бога по подобию своей сущности, гипостазирует свою собственную сущность. Собственно, этому и посвящена «Сущность христианства», разоблачению богословских тезисов христианской религии, объяснению, какие человеческие качества и способности лежат в основе религиозной догматики. «Бог человека таков, – пишет Фейербах, – каковы его мысли и намерения. Ценность бога не превышает ценности человека. Сознание бога есть самосознание человека, познание бога – самопознание человека. О человеке можно судить по богу и о боге – по человеку. Они тождественны, Божество человека заключается в его духе и сердце, а дух, душа и сердце человека обнаруживаются в его боге. Бог есть откровение внутренней сути человека, выражение его "Я"; религия есть торжественное раскрытие тайных сокровищ человека, признание его сокровенных помыслов, открытое исповедание его тайн любви»26. «Человек – и в этом заключается тайна религии, – объективирует свою сущность и делает себя предметом этой объективированной сущности, превратившейся в субъект, и личность, он относится к себе как к объекту, но как к объекту другого объекта, другого существа»27.
22 Цит.соч., С.132.
23 Цит.соч., С.99.
24 Цит.соч., С.145.
25 Цит.соч., С.110.
26 Фейербах Л. Сущность христианства. М., Мысль, 1965. С.42.
Рассудок, этот представитель рода в человеческой душе, есть, по Фейербаху, прообраз Бога – Отца. Рассудок требует от человека безусловного выполнения нравственного закона, как бы ни оправдывал человек свои слабости. Фейербах цитирует по этому поводу И.Канта, писавшего: «…Нравственный закон неизбежно унижает каждого человека, так как последний сравнивает с ним чувственные склонности своей природы»29. Преодолению этого противоречия служит, по Фейербаху, концепция Бога-Сына. Бог-Сын есть гипостазирование опыта человеческого сердца. «Что же избавляет человека от разлада между ним и совершенным существом, от тяжелого чувства греховности, от мучительного сознания своего ничтожества? Чем притупляется смертоносное жало греха? Только тем, что человек сознает, что сердце, любовь есть высшая, абсолютная сила и истина, и видит в боге не только закон, моральную сущность и сущность разума, но главным образом любящее, сердечное, даже субъективночеловеческое существо. Рассудок судит только по строгости закона, сердце приспособляется; оно судит справедливо, снисходительно, осторожно, «по человечеству». Закон, требующий от нас нравственного совершенства, недоволен ни одним из нас, но поэтому-то человек, его сердце также недовольны законом. Закон обрекает на гибель; сердце проникается жалостью к грешнику. Закон утверждает меня как абстрактное, сердце – как действительное существо. Сердце вселяет в меня сознание, что я человек; закон – только сознание, что я грешник, ничтожество. Закон подчиняет себе человека, любовь его освобождает»30.
Тайна Боговоплощения также лежит, согласно Фейербаху, в психогенетической природе христианского Бога. «Если мы будем усматривать в воплощении только вочеловечившегося бога, то это вочеловечение, конечно, покажется нам поразительным, необъяснимым, чудесным. Но воче-ловечившийся бог есть только сделавшийся богом человек, потому что нисхождению бога до человека должно непременно предшествовать в озвышение человека до бога . Прежде чем бог сделался человеком, то есть явился в образе человека , человек уже был в боге, был сам уже богом. Иначе бог не мог бы сделаться человеком»31.
Этот своеобразный антропологический титанизм оказался очень популярным во второй половине XIX века. Он питал и М.Штирнера, и Ф.Ницше, и М.А.Бакунина, К.Маркса и многих других. Влияние концепции Фейербаха чувствуется и в XX веке: З.Фрейд, Э.Фромм, Ж.-П.Сартр и др. Всегда, когда речь заходит о возникновении религии, как о некой фантастической иллюзии человека, идеи Фейербаха всегда оказываются релевантными.
В русском общественно-демократическом движении 1860-1870 годов наиболее влиятельными авторами были М.А.Бакунин (1814-1876) и П.Л.Лавров. Причем, как отмечают сами участники этого движения, Бакунин и его проповедь социальной революции – не политической! – были более популярны33. Да и сама фигура Бакунина, пламенного революционера, участника всех главных европейских революций 40-60 годов, арестанта в Германии, Австрии, России, яркого и плодотворного публициста не могла не привлечь к себе внимания всех критиков российской действительности, особенно молодежи. Здесь не место обсуждать все аспекты деятельности этого русского революционера и проповедника анархизма. Нас интересует только его антитеологизм, как называл это сам Бакунин, оказавший существенное влияние на отход русской интеллигенции от Церкви.
Отношение зрелого Бакунина к религии было вполне определенным. В своем написанном в 1866 году «Катехизисе революционера» он с первых его строк высказывает свою позицию. «1. Отрицание наличности действительного, вне-мирового личного бога, а посему и всякого откровения и всякого божественного вмешательства в дела мира и человечества. Уничтожение служения божеству и его культа. 2. Заменяя культ божества уваженьем и любовью к человечеству, мы провозглашаем: человеческий разум единственным критерием истины, человеческую совесть основой справедливости, индивидуальную и коллективную свободу единственной создательницей порядка в человечестве»34.
В вопросе о происхождении религии Бакунин держался точки зрения Фейербаха, которого он очень почитал. «Все религии со своими богами были всегда не чем иным, как созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистого рассуждения и свободной, опирающейся на науку мысли. Религиозное небо было лишь миражом, в котором воспламененный верой человек находил так долго свое собственное изображение, но увеличенное и отраженное, – т. е. обожествленное»35.
Бакунин - противник любой религии, но в особенности достается христианству, которую мыслитель рассматривает как парадигму всех религий. «Христианство является религией по преимуществу именно потому, что оно представляет природу и сущность всякой религии, каковы: систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества – высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как деистической, так и пантеистической. Так как Бог – все, то реальный мир и человек – ничто. Так как Бог – истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек – ложь, неправедность и смерть. Так как Бог – господин, то человек – раб. Неспособный сам отыскать путь к справедливости и истине, он должен получить их как откровение свыше, посредством посланников и избранников божьей милости. Если же существует откровение, должны существовать священники, а раз эти последние признаны за представителей божества на земле, за учителей и вождей человечества на пути к вечной жизни, то они тем самым получают миссию руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны слепо верить им и беспрекословно им повиноваться; будучи рабами Бога, люди должны быть также рабами церкви и государства, поскольку это последнее благословлено церковью. Из всех существующих или существовавших религий одно христианство в совершенстве это поняло, а из всех христианских сект только римский католицизм провозгласил и осуществил этот принцип с полной последо-
С.144 / Бакунин М.А. Анархия и порядок (Сборник). М. : Public Domain, 2003.
вательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская церковь является единой последовательной, законной и божественной»36.
Бакунинский атеизм неотделим от его анархических взглядов на государство. Для него борьба с государством и борьба с Церковью – это одна и та же борьба за человеческую свободу. «Замечательная вещь это подобие между теологией – наукой Церкви и политикой – теорией Государства, эта встреча двух столь различных по внешности родов мыслей и фактов в одном и том же убеждении: убеждении в необходимости заклания человеческой свободы ради насаждения в людях нравственности и пересоздания их, согласно Церкви – в святых, согласно Государству – в добродетельных граждан. Что касается до нас, мы нисколько не удивляемся, ибо мы убеждены и постараемся ниже доказать, что политика и теология – родные сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель под разными именами; что всякое Государство является земной Церковью, подобно тому как, в свою очередь, всякая Церковь вместе со своим небом – местопребыванием блаженных и бессмертных богов является не чем иным, как небесным Государством»37.
Западно-европейская цивилизация прогрессивно разрушала тысячелетнюю христианскую традицию. Русская интеллигенция, соблазнившись «красивым яблочком» гуманизма, старательно следовала западным прописям, разрушая в народе устои веры и подрывая основы российской государственности.
-
§3 . Душевность и духовность
Не может расстаться с образом Христа Крамской. Но это уже не Христос в пустыне. Жизненный опыт показал художнику, что заповеди Христа поруганы и потоптаны в этой жизни. И он хочет нарисовать другого Христа. Мысль об этой картине приходит художнику в голову уже в то время, когда он еще работал над «Христом в пустыне». В письме к Васильеву 1872 года, цитированному выше, Крамской пишет: «Надо написать еще Христа, непременно надо, т.е. не собственно его, а ту толпу, которая хохочет во все горло, всеми силами своих громадных животных легких. В самом деле, вообразите: нашелся чудак,
- я, говорит, знаю один, где спасение. Меня послал он, и я - его сын. Я знаю, что он хочет, идите за мной, раздайте свои сокровища и ступайте за мною. Его схватили: «Попался! Ага! Вот он! Постойте – гениальная мысль! Знаете, что говорят солдаты, он царь, говорят? Ну, хорошо, нарядим его шутом-царем, не правда ли хорошо?» Сказано – сделано. Нарядили, оповестили о своей выдумке синедрион – весь бомонд высыпал на двор, на площадку, и, увидавши такой спектакль, все, сколько было народу, покатились со смеху. И пошла гулять по свету слава о бедных сумасшедших, захотевших указать дорогу в рай. И так это понравилось, что вот до сих пор все еще покатываются со смеху и никак успокоиться не могут. Этот хохот уже столько лет меня преследует. Не то тяжело, что тяжело, а то тяжело, что смеются»38. Не собственно Христа хочет написать Крамской, а «ту толпу, что хохочет во все горло»… Задуманная картина явно обличительного характера, некая сатира, в которой Христос должен, по существу, играть роль… какую? Роль статиста, оттеняющего зло?.. Но прежде, чем обсудить эти проблемы, стоявшие перед художником, приведем еще один текст, описывающий эту давно задуманную и постоянно им обдумываемую картину.
В письме к Репину в 1874 году Крамской пишет: «Ведь я должен еще раз вернуться к Христу, прежде чем перейти к более близкому времени, а затем и к современности. Как видите, я разговариваю, точно у меня пятьдесят лет впереди! Это всегда так: больные чахоткой полагают, что вот завтра они будут здоровы39 <…> Когда я писал свою картину на первом холсте, тогда же я имел в виду продолжение, и только теперь надо приниматься, а то не совсем будет понятно, так оставить нельзя. Ночь перед рассветом, двор, т.е. внутренность двора, потухающие костры, римские солдаты, всячески надругавшись над Христом, думают, как бы еще убить время, судьи долго что-то совещаются, и вдруг… гениальная мысль! Ведь он называл себя царем, так надо нарядить его шутом гороховым! Чудесно! Сейчас все готово, и господам докладывают, и вот все высыпало на крыльцо, на двор, и все, что есть,
36 Там же.
37 Цит.соч., С.128.
38 И.Н.Крамской – Ф.А.Васильеву. 1 декабря 1872 / Переписка И.Н.Крамского… Т.2. С.112.
покатывается со смеху. На важных лицах благосклонная улыбка, сдержанная, легкая, тихонько хлопают в ладоши, чем дальше от интеллигенции, тем шумнее веселость, и на низменных ступенях развития гомерический хохот. Он бледен, как полотно, прям и спокоен, только кровавая пятерня от пощечины горит на щеке. Не знаю, как Вы, а я вот уж который год слышу всюду этот хохот, куда ни пойду, непременно его услышу. Я должен это сделать, не могу перейти к тому, что стоит на очереди, не развязавшись с этим»40. (Илл.1)

Илл. 1. И.Н. Крамской. Радуйся, царю Иудейский! (Хохот).
Крамской пытался «развязаться» с этим сюжетом 15 лет, если считать от представления публике первой картины о Христе, но картина так и осталась незаконченной. Поначалу он давал ей название «Хохот», позже более евангельское «Радуйся, царю Иудейский!» В силу особенностей своего таланта Крамской, прежде чем рисовать, должен был ясно представлять себе все материальные детали картины. Долгие годы он тщательно готовился к этому: изучал исторические и этнографические работы, относящиеся ко времени начала христианства, готовил разнообразную бутафорию, связанную с картиной, шил костюмы того времени, делал кирасы, шлемы, щиты и т.д. Крамской знал свои слабости в плане композиции и поэтому старался яснее представить всю пространственную конфигурацию будущей картины, создавал макеты, слепил более 150 гли- няных фигур для этого. Для изучения местности он намеревался поехать в Сирию и Палестину, но этому помешала разразившаяся русско-турецкая война. Тем не менее, была совершена поездка в Италию, Крамской осматривал Помпеи и делал наброски. Известно, что в Париже он встречался с Э.Ренаном и консультировался у него поводу культурных и архитектурных особенностей римской империи и Иудеи первых веков. Ренан даже подарил Крамскому с дарственной надписью французский экземпляр своей книги «Жизнь Иисуса»41. При всей философской широте интересов русского художника вряд ли разговор с Ренаном ограничился только обсуждением историко-культурных деталей… В Париже Крамской хотел и начать работу над картиной, подобрал специальное помещение и подготовил холст почти 6-метровой длины, но болезнь сына заставила его вернуться в Россию.
В России работа над картиной идет неровно, Крамской вынужден часто прерываться для портретов, которые приносят ему хлеб насущный. Об этом свидетельствует, в частности, переписка с П.М.Третьяковым. Знаменитый меценат и создатель художественной галереи в Москве уже со времени первой картины о Христе внимательно следит за творчеством Крамского, помогает ему материально, покупает его картины «на корню», еще в процессе работы. Третьяков задумал создать галерею портретов всех знаменитых людей своей эпохи и постоянно привлекает к этому Крамского. Художник советуется с Третьяковым по многим аспектом художнического, так сказать, менеджмента, делится своими планами. Третьяков был осведомлен и о работе над второй картиной о Христе и деликатно интересуется о ее продвижении. Но дело идет очень медленно. В августе 1877 года Крамской пишет Третьякову об этом: «Работаю страшно, как еще никогда, с 7-ми, 8-ми часов утра вплоть до 6-ти вечера, такое усиленное занятие не только не заставляет меня откладывать дело, а напротив, часто испытываю минуты высокого наслаждения, может быть, результат и не оправдает моих ожиданий, но уже процесс работ художественных таков <…> Но как бы то ни было, чего бы это мне не стоило, а раньше конца я не примусь ни за что. Конец же наступит тогда, когда получится выражение ужасного хохота. Останутся археологические детали…»42. Третьяков просит показать картину, как она есть, но художник не соглашается: «…Хочу довести до Вашего сведения, что картину я Вам показать в настоящую минуту не в состоянии, а видеть ее можно только в последних числах сентября или первых числах октября <…> Смысл картины Вам достаточно известен. Остается сообщить название. Для него мною выбрано евангельское выражение «радуйся, царю Иудейский!»43 Но в этом году Крамской картину так и не показал…
Отвлекаться от картины неизбежно приходится. Работа над ней безнадежно затягивается. И хуже всего то, что сам замысел картины под влиянием «всеразлагающего анализа», неотделимого от таланта Крамского, становится все проблематичней… В письме к Суворину в 1885 году (за два года до смерти) художник пишет: «Что касается моей картины, то участь ее и моя вместе очень странная. Я сказал о ней и о том, что мир ее не увидит и лишится, иронизируя. Да и как иначе говорить об этом, когда я сам не видал своей картины (которая только начата) вот уже 6-й год. Помнится, раз я Вам это уже сказал однажды, когда Вы точно так же, как и теперь, сказали, что я ее долго пишу. В том-то и дело, что я ужасно долго не пишу, а почему?»44.
Картину Крамскому так и не удалось докончить. Публика впервые увидела ее только на посмертной выставке 1887 года. Сложная композиция картины, по существу, не удалась художнику. Отдельные фигуры только намечены. Колористическая гамма явно недоработана. Н.А.Ярошенко, один из организаторов выставки, писал Третьякову: «Вот, что мы нашли: картины собственно нет, это даже не картон, вполне решенный и прочно установленный, а скорее всего этот холст можно назвать громадным эскизом, на котором предполагалось сделать еще много перемен»45. Особенно неудачна фигура Христа, непропорционально выбивающаяся из общей композиции. Лицо Христа слабо прорисовано. В картине есть хохот, толпа, «хохочущая во все горло», но, по существу, нет другого полюса, благородной и возвышенной инстанции, противостоящей ему… Нет Христа.
Почему же не удался «второй том», «Радуйся, царю Иудейский!»? Да, и удался ли «первый том»? И про «Христа в пустыне» Крамской ведь говорил «это не Христос»… Конечно, главная причина – отнюдь не недостаток времени, средств, или неудачи в композиции. Главным был тот духовный ступор, на который художник натолкнулся в своей душе, и который никак не позволял ему двинуться дальше… Крамской хочет нарисовать Христа… без Христа. В смысле, Христа, не Богочеловека, а просто человека, гениального учителя нравственности. В этом своем понимании личности основателя христианства он единогласен со многими своими современниками, с немецкой Тюбингенской школой, с Ренаном, с народниками 70-х, со многими революционерами этого времени. Здесь уместна следующая параллель. Рассказывая в своей монографии о «хождениях в народ» в 70-х годах, В.Я.Богучарский, сам активный народник в свое время, отмечает подвижнический пафос этих людей, их почти религиозную веру в народ. Откуда брались это горение, эта вера? Богучарский объясняет феномен генетической связью народничества со славянофильством, с их историософскими взглядами, согласно которым история и культура народа определяется характером его веры. «Последние [славянофилы – В.К.] выводили прямо из своих религиозных воззрений и веру в русский народ, народники, оборвавши нити, которыми была прикреплена у славянофилов вера в народ к их более глубоким религиозно-философским корням, сохранили, тем не менее, их веру в самый народ. Если бы выразить эту мысль в бывших в употреблении у славянофилов терминах (не ими, конечно, изобретенных, а весьма древних), то пришлось бы формулировать ее так: народники были людьми великой душевности, но их душевность не питалась от более глубоких корней духовности»46. Это весьма древнее разделение душевного и духовного в человеке, о
46 Богучарский В.Я. Активное народничество семидесятых годов…, С.180.
котором говорит Богучарский, идет еще от апостола Павла, который пишет в Первом послании к Коринфянам: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (1 Кор., 2:12-15) (курсив мой – В.К.)»
Именно в рамках этой душевности, отвлеченного морализаторства и утверждается чисто гуманистическое понимание личности Христа, или совсем игнорирующее его божественность, или не придающее ей почти никакого значения. Чисто душевный Христос… Но возможна ли эта, говоря сегодняшним языком, душевная модель Христа? Для народнического сознания это повсеместно обычная ситуация: Христос, сочувствующий всем бедным, сам страдающий от преследования властей и фарисеев, жертвующий своей жизнью, есть символ, пример, зовущий на подвиг ради освобождения всех угнетенных и несчастных. И здесь, на пути этого подвига, позволяется порой все, вплоть до убийства (В.И.Засулич, А.И.Желябов и др.)… Крамской, разночинец, плоть от плоти народнического поколения, сам причастен этим идеям, и его «Христос в пустыне» есть ярчайшее выражение этого идеала. Но…, но для художника с талантом и совестью здесь возникает некое затруднение. Тем более для такого глубокого человека, как Крамской, с его аналитическим умом, ищущим всегда «добраться до сути», мыслящего свою картину в большом историческом, социальном и духовном контексте47.
Изучая биографию Крамского, изучая его письма, рассматривая его картины невозможно не вспомнить рассказ «Портрет» Н.В.Гоголя. Гоголя, которого художник так любил еще со времени своей юности. В 16 лет, прочитав повесть «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», молодой Крамской пишет своему другу: «О, какой удивительный человек был этот Гоголь!»48 В рассказе «Портрет» Гоголь повествует о бедном художнике Черткове (Чарткове), который приобрел (нарисовал49) портрет зловещего ростовщика и после этого впал в страсть сребролюбия, стал модным художником, пишущим ремесленные портреты на заказ, растерял свой талант, и по одной версии сошел с ума, а по другой ушел в монастырь отмаливать свой грех. В заключении рассказа (первый вариант, редакция сборника «Арабески») раскаявшийся художник – монах рассказывает своему сыну: «Сын мой! – сказал он мне после долгого, почти неподвижного устремления глаз своих к небу. – Уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человеческого, антихрист, народится в мир. Ужасно будет это время: оно будет перед концом мира. Он промчится на коне-гиганте, и великие потерпят муки те, которые останутся верными Христу. <…> Он уже и теперь нарождается, но только некоторая часть его порывается показаться в мир. Он избирает для себя жилищем самого человека и показывается в тех людях, от которых уже, кажет- вали духовную драму художника в перспективе, предписанной официальной идеологической доктриной. Поэтому выводы автора этой фундаментальной, академической, богато документированной монографии выглядят нередко просто как расхожие идеологические штампы эпохи. Конечно, неудача с «Хохотом» была глубокой творческой трагедией Крамского, но и более того: это была трагедия религиозная.
ся, при самом рождении отшатнулся ангел, и они заклеймены страшною ненавистью к людям и ко всему, что есть создание творца. Таков-то был тот дивный ростовщик, которого дерзнул я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это он, сын мой, это был сам антихрист. <…> Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, он бы еще более наделал зла, и нет сил человеческих противостать ему. Потому что он именно выбирает то время, когда величайшие несчастия постигают нас. Горе, сын мой, бедному человечеству!»50. Конечно, невозможно объявить гоголевского Черткова пророческим для судьбы художника Крамского. Хотя чем дальше, тем больше Крамской все жалуется на рутинную работу над портретами по заказу, хотя Крамской, как и герой Гоголя, теряет своих маленьких сыновей, хотя, без сомнения, вся мрачная идеология рассказа Гоголя всегда помнилась художнику, однако портретная «Одиссея» Крамского, несмотря на все ее превратности, имела другой смысл, в конце концов, обессмертивший его имя… Об этом мы поговорим в последней части.
Как мы видели, в замысле «Хохота», изначально, собственно, и не фигура Христа - самое важное. Именно нравственное омертвление народа, глухота к высокому, оскотинивание жизни, – вот что возмущает художника, повсеместно «слышащего этот хохот» … И это, так или иначе, удалось на картине. Но нужен был контраст для этого беснования, собственно, судящая инстанция, положительный полюс бытия, идеал, Христос. И здесь художника ждала неудача. В общем нравственном балансе картины, рядом со всем этим животным хохотом, кем же должна была бы быть фигура Христа? Просто оттеняющим зло мира сего элементом? Просто статистом?...
Следуя аналитическому пути самого Крамского, зададим прямой вопрос: что могло бы быть в этом возможном образе Христа?
Страдание, физическое, нравственное? – Но этого мало для Крамского, его герой готов на страдание.
Невозмутимая резиньяция, «да будет воля Твоя, не моя, а Твоя!», молится Христос своему Богу-Отцу? – Но это неактуально для Крамского, Христос просто человек…
Жалость по отношению к заблудшим людям, к мучителям, жалость даже к предателю Иуде, прощение их, «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят!» – но для этого надо иметь очень много любви к людям! Это, наверное, главный камень преткновения! Даже и в церковной традиции, как на Западе, так и в православии Христос на картинах, а тем более на православных иконах «Поругания Христа» всегда изображается более или менее условно. И это понятно. Как изобразительно представить все милосердие Бога к человеку? Какая душевная эмоция может представить это?..
Крамской, как и многие его современники, возмущен, оскорблен, раздражен творящимися в России событиями, да и не только в России. Художника преследует «хохот», а его Христос все яснее осознает, что «…человечество вымирает, все идеалы падают, упали совсем, в сердце тьма кромешная, не во что верить, да и не нужно!.. Теперь он [Христос] уже не страдает, бледен как полотно, спокоен, как статуя, только кровавая пятерня на щеке горит, и все кругом хохочет и поделом! Иначе оно и не бывает!»51.
Где взять любовь к людям, чтобы простить все это? Революционеры ради любви к людям, как им кажется, идут на убийства. Конечно, это не путь художника Крамского. Церковь учит, что источник этой любви сам Богочеловек Христос. Но для этого нужна духовная встреча со Христом. Художническая совесть Крамского не позволяет ему принять то, что он нарисовал, за Христа. Вся его душевная природа напрягается до судорог, пытаясь найти этот единственный образ, соединяющий отвержение зла и милосердную любовь… О, если бы опять явилось некое видение, некая галлюцинация!.. Она уже была, но там не было этой всепрощающей и искупающей любви!.. Не все возможно человече- ским усилиям. Ни один из этих путей не был выбран Крамским. Он завис посередине…
Как будто сбываются на нем слова апостола Петра: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1 Петра, 2: 4-8) (курсив мой – В.К.).
IVAN KRAMSKOY. THE ARTIST'S RELIGIOUS DRAMA.PART II. THE STONE OF STUMBLING
Katasonov Vladimir Nikolaevich,
DSc in Philosophy, DSc in Theology;
Professor of Ss Cyril and Methodius Theological Institute of Post-Graduate Studies in Moscow;
str. Pyatnitskaya, 4 / 2S1, Moscow, Russia;