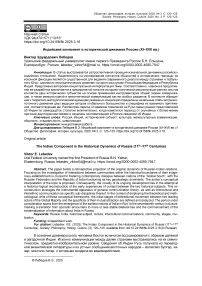Индийский компонент в исторической динамике России (XI–XVII вв.)
Автор: Лебедев В.Э.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье выстраивается ретроспективная проекция изначальной динамики российско-индийских отношений. Нацеленность на исследование контактов общностей в исторических границах их исконной фиксации является существенной для ведения современного диалога между странами «глобального Юга», одними из геостратегических доминант которого выступают Российская Федерация и Республика Индия. Предложена авторская концептуальная интерпретация темы. Соответственно, новизна в продолжении ее разработки заключается в предпринятой попытке историко-логической реконструкции ранних опытов контактов двух исторических субъектов на основе применения инструментария общей теории коммуникации, а также межкультурной и межэтнической коммуникаций как ее особых разделов. В контексте обращения к теоретико-методологическим единицам указанных концепций определены начальные этапы встречно-поточного движения двух ведущих акторов глобального большинства и специфика их взаимного притяжения, соответствующая им. Рассмотрен период со времени появления на Руси самых ранних представлений об Индии по семнадцатое столетие включительно, когда наметился переход от случайных к более-менее прочным двусторонним связям и началась систематизация в России сведений об Индии.
Россия, индия, исторический субъект, культура, межкультурные коммуникации, общность, стадиальность, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149148095
IDR: 149148095 | УДК: 94(470+571)“10/16” | DOI: 10.24158/fik.2025.3.16
Текст научной статьи Индийский компонент в исторической динамике России (XI–XVII вв.)
Ekaterinburg, Russia, ,
Самое древнее описание Индии, которое нашло распространение на Руси, относится к XI в. Оно содержалось сначала в таких памятниках византийской литературы, как составленная монахом Георгием Амартолом «Хроника»1 и написанная путешественником, книжником Козьмой Индикопло-вом «Христианская топография»2. Затем источники информации об Индии пополнились переведенными с греческого языка нравоучительной повестью середины XII в. «О Варлааме и Иоасафе»3, «Хронографической Александрией»4 ХII – начала ХIII в. и «Сказанием об Индийском царстве»5.
В древнерусской книжной традиции утвердился утопический, фантастический облик Индии, расположенной в самых дальних пределах ойкумены (Свиридова, 2008). Один из мифических персонажей указанных памятников, определяя границы Индийского царства, речь ведет о «схождении неба с землею»6. Страна эта зачастую воспринималась в качестве «земного рая», поскольку обладала огромными богатствами и совершенным общественным устройством, на взгляд древнерусского обывателя.
На основе письменных памятников Древней Руси, рисовавших мифологический образ Индии, у жителей Русской земли складывалось представление об иных духовных сущностях. Присутствовавшие в индийских притчах (в частности, «Об инороге») образы и символика о колесе сансары и цепи перерождений транслировали на Русь представления о траектории движения мира по кругу или спирали, что расширяло воззрения русичей, исповедовавших христианство с его концепцией движения по восходящей линии от грехопадения к Царству Небесному. Так, служителем Софийского собора в Новгороде Агафоном был составлен первый древнерусский литературно-энциклопедический сборник, в название которого была вынесена его основная идея – «Великий миротворный круг»7, одна из ключевых составляющих индийского мировоззрения относительно толкования вектора исторического и метаисторического бытия.
Духовный мир древнерусского человека расширялся, оказавшись способным не только найти точки соприкосновения с индийским мировидением, но и принять его. Символика иной культуры становилась элементом русского духовного опыта.
При обращении к характеристике предметно-изобразительного уровня коммуникации между акторами разных цивилизаций, в частности, русской и индийской, следует исходить преимущественно из того, что ее основой выступает язык, представляющий в числе прочего и систему символов, имеющих как визуальное выражение, так и сущностные свойства.
В отечественной гуманитаристике накоплен успешный опыт по выстраиванию семантических групп древнеиндийских и древнерусских слов. Так, санскритологами К.Л. Борисовым и А.К. Шапошниковым установлено внешнее сходство и однородность 1 370 русских и санскритских слов, многие из которых использовались древнерусскими книжниками, начиная с XI в. (Борисов, Шапошников, 2018).
Более того, образы Индии достаточно прочно были интегрированы в культурный шифр Русской земли. Например, с представлениями об укладе жизни высшей индуисткой касты – брахманов-жрецов – было связано употребление на Руси крылатого выражения «Постимся, как рахмане», а также прилагательного «рахманный», то есть «покорный», что позволяет обозначить определенные чувства духовной общности двух стран.
После столкновения Руси с монголо-татарами возрос ее интерес к Востоку и, в том числе, к Индии. Наряду с переводными трудами появился оригинальный письменный древнерусский памятник об этом государстве. Опыт первого «похода» в Индию русского человека, купца из
Твери Афанасия Никитина, нашел отражение в его путевых заметках «Хожение за три моря»1 (XV в.). В них присутствует изложение личного наблюдения представителем Русской земли жизни и обычаев народностей средневековой Индии. Опыт межкультурного общения с неизведанным миром, приобретаемый на Руси до сих пор с помощью его опосредованных форм, был обогащен знанием об «ином» историко-культурном субъекте на основе непосредственного контакта с ним. Личностное восприятие русским купцом событий путешествия позволило отойти от преобладающей в предшествующих древнерусских текстах утопической модели толкования образа Индии. Афанасий в противовес неопределенному, загадочному видению Востока и Индии описывает реальные места, в которых находится, их культурные, религиозные традиции и языковые особенности. Путевые заметки первого русского человека в Индии написаны с фотографической точностью, они полны конкретных деталей, изобилуют топонимами. Например, во вступлении «Хожения» отчетливо указывается на географию предпринятого путешествия: «1-е море Дербеньское; 2-е море Индейское; 3-е море Черное»2. Более того, в дневниковых заметках на основе личного восприятия «чужеземного» мира представлено описание опыта межкультурной коммуникации в таких ее основных параметрах, как проявление ментальной константы «свой» – «чужой», принятие «другого» мира или испытание культурного шока при встрече с ним.
Изложение событийного ряда в «Хожении» не дает оснований для утверждения, что русский первопроходец испытал в Индийской земле какое-либо сильное культурное потрясение. Хотя он столкнулся с иной культурой, путешествуя по южной части Индии, расположенной в границах плоскогорья Декан, где среди населения преобладали вишнуиты и особенно шиваиты и было распространено идолопоклонничество. Афанасий посещал языческие святилища, наблюдал за совершением обрядов иноверцами.
Однако русский купец не отстранился от неизведанного мира, а, наоборот, интересовался его политическим устройством, бытом, принципами жизни людей с иной верой и взглядами. В связи с этим обращают на себя внимание благожелательные отношения между индусами и чужеземцем3.
Проявлением межкультурной коммуникации выступает представление зарубежного мира через призму русского мировосприятия, что улавливается уже в начале путевых заметок: для обозначения представителей туземного населения используются термины, свойственные «русскому культурному полю» (князь, бояре, холоп). Затем же употребляются «местные» понятия (султан, хан)4.
Особенно отчетливо отмеченный подход обнаруживается в процессе контактов тверского купца с носителями двух основных духовных традиций – ислама и индуизма, распространенных в те времена среди народностей Индии. Они были в одинаковой степени неприемлемы, хотя их восприятие было различным.
Политеизм индуизма, его обрядовая практика и символика были абсолютно непонятны для путешественника из средневековой России. Религия же мусульман оказалась более доступной. Догмат ислама об абсолютном единстве Бога – Аллаха – воспринимался купцом как более понятный вариант монотеизма в сравнении с христианским представлением о дифференцированном единстве – единстве троичности Бога. Русский купец испытывал значительное влияние со стороны встречавшихся ему мусульман (Челышев, 2021: 40). «Бесерменин же Мелик, тот мя много понуди, в веру бесерменьскую стати»5. Но чужеземец в «Индейской стране» остается верен христианской духовной традиции; «полуисламизировался» (Гачев, 1993: 81), не поменяв своей религии. «Уже про-идоша 4 Великыя дни в бесерменьской земле, а християнства не оставих…»6.
Открытие русскими Индии получило новое измерение в эпоху складывания московской государственности, а на Индостанском полуострове – крупной империи Великих Моголов. Контакты, осуществлявшиеся ранее на семиотическом или предметно-образном уровне, обогащаются выстраиванием интеракций исторических субъектов на феноменологическом, опытно-практическом их уровне. Новый этап узнавания «другого» проявился в едва обозначившихся зачатках межгосударственных связей, формировании предпосылок для налаживания коммуникаций межэтнических и межконфессиональных.
В Никоновской летописи XVI столетия7 содержатся данные о первых межгосударственных контактах Московии с Могольской Индией. В 1532 г. к русскому правителю Василию III явился представитель из окружения падишаха Бабура с грамотой, содержащей предложения «быть в дружбе и братстве». Однако они остались лишь на бумаге, ко времени прибытия его посла в Москву индийский падишах скончался1, а ответ Василия III был таким: «Чтобъ люди промежъ ихъ ездили, а о братствъ къ нему великий князь не приказалъ; потому что не ведаетъ его Государства…» (Малето, 2021: 70).
Попытки выстраивания межгосударственных контактов предпринимались и в следующем столетии: в Могольскую Индию из Москвы было отправлено четыре миссии с поручениями дипломатического характера (Мейтарова, 2017: 585). Первые две из них ко двору индийского падишаха Шах-Джахана были организованы в 1646 г. и 1651–1652 гг. по велению царя Алексея Михайловича. Они были представлены не чинами Посольского Приказа, а торговыми людьми из Астрахани. Социально-профессиональная группа правительственных служащих в Московской России только складывалась, и не было среди них дьяков и подьячих, обладавших достаточным знанием языков и обычаев Востока. Торговые же люди по роду своей деятельности обладали некими навыками общения с носителями культуры восточного региона мира. Однако персидский шах, преследуя собственные интересы, воспрепятствовал дальнейшему продвижению «северных гостей» в страну, славящуюся несметными богатствами. Третья дипломатическая миссия, инициированная Алексеем Михайловичем, была направлена в 1675 г. к падишаху Аурангзебу во главе с купцом Мухаммедом Юсуфом Касимовым, обладавшим знанием восточных языков. Московское посольство добралось до пределов Могольской Индии, но не попало в ее столицу – Дели.
В приобретении первого опыта по выстраиванию интеракций двух государств особо значимым оказалось четвертое в XVII в. «хожение» в Индию под руководством московского купца Семена Маленького в 1695 г. В ходе пребывания в Индийской земле глава русской миссии был принят ее властителем Аурангзебом (Водиева, 2002: 489). Составленная в результате аудиенции грамота («фирман») зафиксировала факт установления официальных межгосударственных связей Московской Руси и Могольской Индии.
В роли социальных маркеров обозначившихся интеракций двух исторических субъектов на феноменологическом, опытно-практическом их уровне наряду с предпринимаемыми первыми попытками по налаживанию межгосударственных связей выступал и приобретаемый начальный опыт контактов – как межэтнических, так и межконфессиональных. Он накапливался в процессе формирования коммуникативного пространства, на котором продолжалось постижение «другого» представителями русской и индийской социокультурных общностей.
Одной из исторических разновидностей подобного коммуникативного пространства являлись торговые колонии, функционирующие в крупных социально-экономических локациях мира. Московское государство шло по пути превращения в таковую с середины XVI в. в связи с присоединением Поволжья и включением в свой состав всего торгового пути по Волге, что расширило предпосылки для коммуникаций с Востоком. В результате в Астрахани возникла индийская торговая колония. Здесь индийцы появились в самом начале XVII в., прибывая небольшими группами из Закавказья и Ирана, где издавна вели свою деятельность торговые дворы индийских купцов. По численности и богатству индийская колония в России превосходила прочие.
Инфильтрация индийского этнического элемента в пределы Московии выступала своеобразным механизмом формирования коммуникативного пространства. Его определенным индикатором являлся феномен этнически смешанных браков, содействующих сближению местных и иноземных этнических сообществ.
Селившиеся на Волге индийские негоцианты представляли преимущественно молодое поколение, поскольку занятие коммерцией предполагало наличие значительных человеческих ресурсов. Они прибывали в далекую страну без домочадцев – индийские женщины на чужбину не ездили – и, если не создали еще на родине собственные семьи, заключали временные браки с местными татарками. Следствием этнически смешанных браков стало появление на Волге особой группы населения – индо-татар, обозначаемых термином «агрыжанские татары» или «агры-жанцы» (от татарско-тюркского слова «оглы» – ребенок), которые, в отличие от своих «отцов»-индийцев, фиксировались в документах в качестве категории населения, относящейся к «индийской природе» (Никольская, 2019: 111). В Астрахани существовал даже специальный Агрыжан-ский квартал (Антонова, 1963).
Один из значимых факторов, влиявших на благополучное пребывание в «иной» среде, заключался в межконфессиональной коммуникации с ней. Индийские колонисты представляли гетерогенную группу чужеземцев, включавшую и индуистов, и мусульман. Многие «гости» меняли вероисповедание, переходили в православие. Их обращение в новую веру обуславливалось стремлением обеспечить себе определенную социальную устойчивость, облегчить занятие коммерческими делами и получить дополнительные гарантии для успешной торговой деятельности. К тому же, смена вероисповедания позволяла неофитам выступать в качестве своеобразного связующего звена между местным населением и соотечественниками.
Стремление индийцев конфессионально адаптироваться в чужеземной среде ради некоей выгоды вызывало осуждение среди соплеменников. Отечественный индолог К.Д. Никольская отмечает, что новокрещеные «… благополучно продолжали поддерживать контакты с бывшими единоверцами», но на родине «… оказывались в определенной изоляции» (Никольская, 2020: 99).
Приспособление к «иному» конфессиональному окружению не имело чего-то общего с проявлениями социокультурного конформизма. Российскому обществу была присуща религиозная терпимость к индусам, кремировавшим покойников и соблюдавшим религиозные обряды без вмешательства властей.
Фиксировались случаи, когда русским не нравились обычаи иноверцев. Выдвигались претензии, что они, «живучи на Москве и в городах и в Астрахани многие годы, и помирают, и мертвые своя тела в землю не кладут, пожигают огнем, а пепел тех своих мертвых тел мечют в реки… и от того чинитца человеком и скотом великое повреждение…»1.
Несовместимость интересов носителей разных этнокультур носила, скорее, мимолетный, нежели затяжной, конфликтный характер. Власть обеспечивала защиту традиций «пришлого» этнического элемента. В 1681 г. российское правительство разрешило индийцам постоянно проживать в Астрахани (Голикова, 1982: 163, 165). Почти одновременно вышел специальный царский указ, запрещавший астраханским сотникам чинить препятствия индийцам соблюдать свои обычаи (Воднева, 2002: 491).
Таким образом, в рамках ретроспективного измерения динамики взаимодействия России и Индии в XI–XVII вв. определена ее стадиальность с позиций выявления особенностей коммуникативных характеристик диалогового пространства.
Изначально российско-индийские контакты осуществлялись на семиотическом, предметноизобразительном уровне, когда жителям Русской земли сведения о загадочной Индии транслировались через текст, представленный преимущественно переводной византийской литературой. Постижение «другого» лишь на основе визуально фиксированной информации, хотя и обладавшей сущностными свойствами, создавало у русичей утопический образ Индии.
Расшифровыванию во многом сказочных представлений о неизвестной Индийской земле задало направление «хожение» в нее первого русского человека. В результате произошло обогащение знания об «ином» историко-культурном явлении в формате беспосредственного контакта с ним. В диалоговом пространстве наметился поиск точек соприкосновения двух разных духовных миров в контексте обращения к ментальной константе «свой» – «чужой».
Воспроизводство интеракций исторических субъектов в опытно-практической плоскости явилось новым рубежом в накоплении потенциала их взаимодействия. Его характерными чертами были возникновение зачатков межгосударственных отношений и создание предпосылок для налаживания межэтнических и межконфессиональных коммуникаций. Обозначилось формирование российско-индийского коммуникативного пространства, маркерами которого являлись этнически смешанные браки; межконфессиональный диалог православных христиан, индуистов и мусульман; терпимое восприятие «другого». В итоге отношения российской и индийской общностей обретали прочную основу взаимной доброжелательности, отличались устойчивостью и способностью к поступательному развитию.