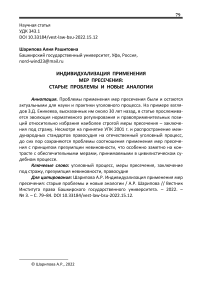Индивидуализация применения мер пресечения: старые проблемы и новые аналогии
Автор: Шарипова Алия Рашитовна
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 3 (15), 2022 года.
Бесплатный доступ
Проблемы применения мер пресечения были и остаются актуальными для науки и практики уголовного процесса. На примере взглядов З.Д. Еникеева, высказанных им около 30 лет назад, в статье прослеживается эволюция нормативного регулирования и правоприменительных позиций относительно избрания наиболее строгой меры пресечения - заключения под стражу. Несмотря на принятие УПК 2001 г. и распространение международных стандартов правосудия на отечественный уголовный процесс, до сих пор сохраняются проблемы соотношения применения мер пресечения с принципом презумпции невиновности, что особенно заметно на контрасте с обеспечительными мерами, принимаемыми в цивилистическом судебном процессе.
Уголовный процесс, меры пресечения, заключение под стражу, презумпция невиновности, правосудие
Короткий адрес: https://sciup.org/142235571
IDR: 142235571 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2022.15.12
Текст научной статьи Индивидуализация применения мер пресечения: старые проблемы и новые аналогии
Одним из основоположников современной теории мер уголовно‐ процессуального принуждения был доктор юридических наук, профессор З.Д. Еникеев. В своих работах он проанализировал и обобщил состояние уголовно‐процессуального законодательства – советского и российского, и опыт его применения, в том числе собственный.
С начала 1990‐х годов, когда З.Д. Еникеев защитил докторскую диссер‐ тацию, посвященную мерам пресечения, ученые развили эту тему, в том числе на монографическом уровне: Д.А. Долгушин (2010), О.Г. Иванова (2019), Н.И. Капинус (2001), Н.Г. Нарбикова (2005), Н.А. Симагина (2020) и др. Однако многие разработанные профессором З.Д. Еникевым теоретические положения остаются актуальными, несмотря даже на весьма серьезное ре‐ формирование мер пресечения, состоявшееся при принятии УПК 2001 г. Так, в статье «Индивидуализация применения мер пресечения», опубликован‐ ной еще в 1994 г., З.Д. Еникеев выделил 4 критерия их применения: целевая оправданность, соразмерность действительной необходимости, соответст‐ вие тяжести совершенного преступления, согласованность со специальными условиями применения. Общий вывод связан с обязательным индивидуаль‐ ным подходом к применению мер пресечения и их выбору, недопустимо‐ стью «автоматических» решений [1].
Несмотря на то что вопросы о применении наиболее серьезно ограни‐ чивающих права и свободы человека мер пресечения по действующему УПК решаются судом, это вовсе не стало гарантией индивидуального подхода.
Приведем лишь один частный пример, который, однако же, тиражиру‐ ется практически во всех уголовных делах. Совокупность норм ст. 299, 308 и 313 УПК РФ обязывает суд при постановлении обвинительного приговора решить вопрос о мере пресечения в отношении осужденного. Оставим за скобками то, что суд делает этого как бы по своей инициативе, предполо‐ жим, что законодателем в формулу поведения государственного обвинителя заложено желание обеспечить исполнение приговора настолько, что нет не‐ обходимости выяснять, присутствует ли это желание в каждом конкретном случае (иначе придется предположить, что перед судом поставлена не свой‐ ственная ему задача доведения собственного решения до исполнения). Главное в другом: по всем делам (исключения в пределах статистической погрешности и только по самым резонансным делам), по которым осужден‐ ному назначено лишение свободы с отбыванием в исправительном учреж‐ дении, кроме колонии‐поселения, до вступления приговора в силу судом ему избирается в качестве меры пресечения заключение под стражу1. Фак‐ тически это произвольное лишение человека свободы, нарушающее целый комплекс международных и конституционным норм, оправдываемое требо‐ ванием обеспечения исполнения приговора и являющееся в действительно‐ сти самим его досрочным исполнением. В гражданском, арбитражном и ад‐ министративном процессах нет даже сопоставимой статистики, поскольку появление не вступившего в законную силу решения ничего не меняет в сравнении с его отсутствием. Как правило, обеспечительные меры (в том числе обоснованные невозможностью исполнения судебного акта в буду‐ щем в случае удовлетворения им требований истца) действуют не до выне‐ сения окончательного судебного акта судом первой инстанции, а до вступ‐ ления его в силу. Это не препятствует первичному их принятию уже после вынесения такого акта, но не дает тому никаких дополнительных оснований.
Многочисленные отличия регламентации и практики применения в целом сходных (аналогичных или даже универсальных) институтов уголов‐ но‐процессуального права, с одной стороны, и гражданского процессуально‐ го, арбитражного процессуального, административного процессуального права – с другой, препятствуют системности судебно‐процессуального права и, как правило, обнажают проблемы уголовного процесса. Так, чрезмерная относительно цивилистического процесса распространенность применения мер пресечения в отношении «ответчика» (обвиняемого) является одним из проявлений обвинительного уклона в деятельности суда.
В настоящее время далеко не все ученые разделяют точку зрения о близости правовой природы мер процессуального принуждения уголовному преследованию. Так, А.А. Тарасов, защищая презумпцию невиновности, кри‐ тикует употребление терминов «уголовно ответственные лица» и «меры уголовно‐правового воздействия» в контексте рассуждений о мерах процес‐ суального принуждения в отношении лиц, подвергающихся уголовному пре‐ следованию, но еще не осужденных [5].
Но если предположить, что ядро мер принуждения – меры пресече‐ ния, и крайняя (то есть наиболее строгая) из них – заключение под стражу – имеют своей целью не преследование лица, предположительно совершив‐ шего преступление, а только обеспечение сохранности доказательств, воз‐ можности подвергнуть упомянутое лицо суду, безопасности других участни‐ ков процесса, то почему ничего подобного указанным мерам нет в других процессуальных отраслях? Разве в арбитражном процессе заинтересованное лицо (причем и истец, и ответчик) не может уничтожить доказательства? Разве в административном деле лицо, привлекаемое к ответственности, не может скрыться от суда? Разве в гражданском деле (например, о расторже‐ нии брака и определении места жительства детей) одна из сторон не может угрожать безопасности другой? Но почему‐то все остальные процессуальные отрасли ограничиваются в рамках обеспечения максимум «запретом совер‐ шать определенные действия» и ничего напоминающего уголовно‐ процессуальные меры пресечения не содержат.
Предсказуемо нам могут возразить, что уголовный процесс имеет дело с существенно более опасными деяниями, чем любой другой, поэтому и средства у него должны быть соответствующими. Неслучайно и наличие у мер пресечения специфического основания – достаточных данных полагать, что обвиняемый, подозреваемый может продолжать заниматься преступной деятельностью. Однако ею заниматься может не только центральный участ‐ ник стороны защиты по уголовному делу, но и масса других лиц, по отноше‐ нию к которым с предупреждением совершения преступлений государство не менее эффективно справляется при помощи оперативно‐разыскных мер. Преступной деятельностью, к слову, может заниматься и участник граждан‐ ского и арбитражного процесса, однако характера обеспечительных мер по гражданским или арбитражным делам с его участием это не изменит.
Несмотря на существенные различия между уголовным процессом, с одной стороны, и гражданским, арбитражным и административным – с дру‐ гой, последние имеют большой ресурс как для познавательного сопоставле‐ ния, так и для прагматического заимствования.
Список литературы Индивидуализация применения мер пресечения: старые проблемы и новые аналогии
- Еникеев З.Д. Индивидуализация применения мер пресечения / З.Д. Еникеев // Российский юридический журнал. - 1994. - № 1 (3). - С. 63-67.
- Филатьев В.А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: проблема детерминированности / В.А. Филатьев // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 1. - С. 124-132.
- Филатьев В.А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: мера пресечения или обращение наказания к исполнению / В.А. Филатьев // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 2. - С. 141-149.
- Филатьев В.А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: о немедленном исполнении и безотлагательном обжаловании / В.А. Филатьев // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 5. - С. 168-178.
- Тарасов А.А. Основания процессуального принуждения и презумпция невиновности / А.А. Тарасов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018. - № 5. - С. 37-42.