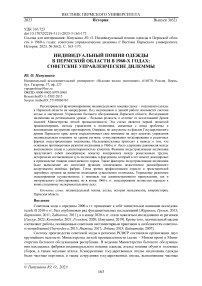Индивидуальный пошив одежды в Пермской области в 1960-х годах: советские управленческие дилеммы
Автор: Папушина Ю.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Массовое производство и потребление в позднесоветском обществе
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается функционирование индивидуального пошива (далее - индпошив) одежды в Пермской области на микроуровне. Под индпошивом в данной работе понимается система ателье и мастерских Управления бытового обслуживания Пермской области. Исследования индпошива на региональном уровне - большая редкость, в отличие от исследований Домов моделей Министерства легкой промышленности. Эта статья является первой попыткой проанализировать методы управления в индпошиве, связанные с ними проблемы и возникающие внутренние противоречия. Опираясь на документы из фондов Государственного архива Пермского края, автор сосредотачивает свое внимание на двух аспектах управления индивидуальным пошивом на уровне региона: стимулировании моделирования и различных формах индустриализации индпошива. Исследовательница приходит к выводу о том, что основным противоречием развития индпошива в 1960-е гг. было удержание равновесия между выполнением плана и удовлетворенностью клиентов. Феномен индустриализации индпошива представляет собой своеобразную попытку компромисса между ремесленным трудом, исторически составляющим суть индпошива, и фордизмом, который в тот момент доминировал в производстве товаров повседневного спроса. Также фактором индустриализации индпошива было выполнение им латентной функции компенсации недостаточно разнообразного ассортимента швейных фабрик. Точка зрения профессионалов отрасли и представителей партийных органов на развитие индпошива существенно отличалась. Управление развитием моделирования осуществлялось с помощью как административного принуждения, так и материального стимулирования, но в конце 1960-х гг. моделирование полностью перешло к вновь созданному экспериментальному цеху.
Индивидуальный пошив, ателье, история менеджмента, микроистория, пермская область
Короткий адрес: https://sciup.org/147246488
IDR: 147246488 | УДК: 316.723 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-163-173
Текст научной статьи Индивидуальный пошив одежды в Пермской области в 1960-х годах: советские управленческие дилеммы
Советская мода с середины 2000-х гг. привлекает к себе значительное внимание исследователей. В 2010-х гг. был опубликован ряд фундаментальных исследований [ Журавлев , Гронов , 2013; Бартлетт , 2011; Zakharova , 2011], а в конце 2020-х гг. стали появляться исследования из регионов [ Гангур , 2022; Korniienko , 2021; Голодяев , 2020; Папушина , 2019]. Кроме того, значительный массив составляют работы, посвященные советским вестиментарным практикам и особенностям советского потребления [ Chernyshova , 2013; Иванова , 2017; Лебина , 2015; Вайнштайн , 2007].
Систему производства советской моды в регионах РСФСР составляли организации двух крупнейших ведомств: Министерства легкой промышленности (далее - Минлегпром) и Министерства бытового обслуживания республики. В ведении Министерства бытового обслуживания находились фабрики индивидуального пошива одежды, ателье пошива обуви и головных уборов, а также меховые ателье. Конкурентами государственных ателье индпошива одежды были частные портнихи, а также сотрудники государственных ателье, выполнявшие частные
заказы в свободное время. Хотя надежных оценок «серого» рынка индпошива, насколько нам известно, не существует, эти источники снабжения модной одеждой могли быть более привлекательны для заказчика благодаря скорости выполнения заказов и индивидуальному в полном смысле слова подходу, от которого в государственных ателье индпошива к 1960-м гг. полностью отказались [ Журавлев , Гронов , 2013].
В работах, посвященных истории индивидуального пошива на общероссийском и региональном уровнях, последняя предстает как поступательное движение в сторону централизации моделирования и индустриализации работы ателье ради достижения плановых показателей рентабельности. Этот подход упускает из виду дискуссии и процессы, происходившие на уровне отдельных ателье и во время отдельных совещаний и собраний, которые позволяют пролить свет на разные представления об оптимальных стратегиях развития, отклонения от официальной линии и неформальные практики, которые позволяли держаться в рамках плановых показателей.
В статье анализируется процесс функционирования системы индпошива «снизу», опираясь на протоколы и отчеты, которые фиксируют повседневную деятельность ателье индпошива в г. Перми и в области, дискуссии между партийными органами и профессионалами и неформальные практики советских ателье. Исследование опирается на документы из фондов Государственного архива Пермского края. Статья, во-первых, вносит вклад в обсуждение сложности и многообразия, которое скрывалось за монолитным фасадом советского общества [ Юрчак , 2014; Голубев , 2021] и экономики [ Пасс , Рыжий , 2012; Яременко , 1993]. Во-вторых, она проливает свет на ранее не изучавшиеся вопросы отношений между разными уровнями управления в такой специфической отрасли, как индивидуальный пошив. Пермская область в контексте изучаемой проблематики представляет особый интерес, поскольку на рубеже 1950-1960-х гг. становятся очевидными изменение потребительского поведения и несоответствие того, что производили ателье и мастерские, запросам покупателей и клиентов (ГАПК. Ф. Р-476. Оп. 2. Д. 2434. Л. 33). Таким образом, исследование рассматривает управленческие практики в ситуации изменяющейся внешней среды.
Методологическим фундаментом статьи является микроисторический подход, а именно история «снизу», которая обращается к опыту и точке зрения обычных людей и их опыта переживания социальных изменений [ Bruke , 2001, p. 4]. В данном случае в качестве «обычных людей» выступают региональные управленцы и сотрудники ателье, чья агентность обычно игнорируется в исследованиях республиканского и общесоюзного масштаба. Также микроисторический подход позволяет выявить различные позиции и противоречащие друг другу голоса [Ibid., p. 6], что, в свою очередь, дает возможность показать разнообразие точек зрения и их связь с позицией говорящего.
Микроистория производства одежды в советский период находится еще в младенческом состоянии. До сих пор крайне редки исследования отдельных управлений, трестов, экспериментальных цехов, Домов моделей и Домов моды, ателье или мастерских пошива одежды, которые бы раскрывали влияние внешних условий, экономические, культурные, социальные и антропологические особенности функционирования этих организаций.
В системе индивидуального пошива противоречие между бюрократической координацией, качеством и экономической эффективностью было наиболее очевидно, потому что предприятия индпошива прямо зависели от удовлетворенности заказчиков и их повторного обращения за услугой. Руководитель же предприятий в плановой экономике был весьма ограничен в своих возможностях [ Корнаи , 2000; Nove , 1987]. Так, советский менеджер часто реализовывал решения, которых не принимал, с заранее определенными ресурсами, на количество и качество которых не мог повлиять. Будучи бюрократом, поставленным партией управлять предприятием, советский управленец отчитывался о результатах работы перед бюрократом более высокого уровня, а не перед советом директоров или собственником.
Хотя наиболее значительные исследования истории советского индпошива [ Журавлев , Гронов , 2013; Гангур , 2022] признают такие проблемы отрасли, как системный дефицит, недофинансирование и нехватку квалифицированных кадров, они концентрируются на реализации стратегии развития индпошива, принятой на общесоюзном уровне, а не на том, как ателье и тресты решали поставленные перед ними задачи в заданных условиях. Так, Журавлев и Гронов уделяют значительное внимание реформированию службы быта «сверху» в середине - конце
1960-х гг., в результате которого индивидуальный пошив стал более экономически эффективным за счет индустриализации и модернизации процесса производства. Они констатируют б о льшую свободу моделирования одежды в службе быта, но при этом демонстрируют, что эта функция перешла к специально создаваемым централизованным структурам, например, Домам моды. Дмитрий Гангур [ Гангур , 2022], изучая историю индпошива в Краснодарском крае, приходит к выводу о значительном разнообразии моделирующих структур в службе быта региона, ведущей роли закройщиков в моделировании в службе быта, особенно в конце 1950-х - начале 1960-х гг., и многочисленных трудностях с ресурсами, включая квалифицированных сотрудников, доступ к журналам мод и дефицит необходимых в работе материалов.
Таким образом, существующие исследования преуспели в том, чтобы описать, какие правила игры для ателье, их сотрудников и руководителей задавало государство. Они показали, как выглядело становление усовершенствованной системы службы быта с точки зрения союзных и республиканских управленцев. Наконец в этих исследованиях впервые появились упоминания бригадного метода и производства полуфабрикатов как важнейших особенностей советского подхода к индивидуальному пошиву. Однако все еще отсутствуют исследования, содержащие микроанализ управленческих практик в советском индивидуальном пошиве и тех развилок, которые возникали на пути развития этой отрасли. Мало известно о том, как управленцы в индивидуальном пошиве решали задачи выполнения плана и успешного сочетания бюрократической и рыночной координации [ Корнаи , 2000]. Тому, чтобы ответить на эти вопросы, посвящена данная статья.
Между моделированием и системным дефицитом
В 1950-1960-х гг. ателье индивидуального пошива и швейные мастерские находились в ведении Пермского текстильшвейторга. Кроме ателье и мастерских, эта организация управляла магазинами одежды и тканей, ларьками и палатками со швейными изделиями и складами, а также раскройными столами в крупных магазинах одежды (ГАПК. Ф. Р-476. Оп. 2. Д. 2434. Л. 31, 40). В 1959 г. в ателье и мастерских торга работали 1677 человек, а в 1960 г. их число увеличилось до 1818 человек (ГАПК. Ф. Р-476. Оп. 2. Д. 2434. Л. 50; Д. 2472. Л. 17). На первое января 1960 г. в Пермской области было 22 ателье и швейных мастерских, из которых ателье I разряда – два, ателье II разряда – 15 и пять швейных мастерских (ГАПК. Ф. Р-476. Оп. 2. Д. 2434. Л. 31). Ассортимент изделий, которые можно было заказать в ателье и мастерских торга, охватывал все основные группы одежды для мужчин, женщин и детей, а также аксессуары (Там же. Л. 34–35, 45). Шесть ателье специализировались на изготовлении мужской, детской либо женской одежды, на верхней одежде либо на легком платье (Там же. Л. 44). Острой была проблема снабжения ателье и мастерских тканями, что заставляло заказчиков переключаться на закройные столы, которые, в отличие от ателье, работали с тканями заказчика (Там же. Л. 34, 39). Покупательница, выбрав ткань, могла тут же, в магазине, раскроить понравившийся фасон и сшить новую вещь дома самостоятельно. Самопошив также помогал потребителям избежать длительных, по два-три месяца, сроков ожидания выполнения заказа в ателье или мастерской (Там же. Л. 47).
К 1966 г. в Перми насчитывалось 53 комбината бытового обслуживания, которые объединяли 2000 ателье, мастерских, парикмахерских, фотоателье и других служб (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 236. Л. 52–54). В 1968 г. было создано производственное объединение «Прикамье» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 143. Л. 51), которое управляло фабриками индивидуального пошива одежды № 1–5, трикотажное ателье «Новинка», машинно-счетное бюро и Дом быта «Алмаз». Каждая фабрика индпошива объединяла до 33 ателье. Крупных ателье, в которых было занято от 40 до 150 человек, было 15. Также в производственное объединение входили четыре специализированных ателье по пошиву детской одежды (Там же). В системе пошива и ремонта одежды бытового обслуживания было занято около 4 тысяч человек (Там же).
1960 г. стал поворотным моментом в развитии моделирования в системе индпошива Пермской области. Пермский областной Текстильшвейторг неудачно выступил во время просмотра моделей одежды под эгидой Росторгодежды Министерства торговли РСФСР в Ленинграде 11 ноября 1960 г.: модели пермских ателье и мастерских отставали от моды и имели технологические дефекты (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 19). Из 18 областей-участниц Перм- ская заняла 10-е место (ГАПК. Ф. Р-476. Оп. 2. Д. 2472. Л. 14). Текстильшвейторг в отчете объяснял провал тем, что во втором полугодии 1960 г. мода резко изменилась и представленные торгом модели 1959 г. не смогли удовлетворить комиссию (Там же). Недовольство и даже порицание от вышестоящего руководства за неудовлетворительную работу являлось серьезной проблемой в условиях бюрократической координации, когда одобрение следующего уровня управления играло ключевую роль.
Анализируя причины своей неудачи, директора пермских ателье мод указывали на нехватку времени на подготовку к просмотру, информации о направлении моды и нужных для пошива моделей тканей (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 160). Недостаток информации о направлении моды объяснялся тем, что закройщики испытывали трудности с покупкой журналов мод и подпиской на интересующие их ленинградские и рижские издания (Там же. Л. 162-163). Журналы, которые все же попадали в ателье, закройщики и директора критиковали за «неудовлетворительное качество» (Там же. Л. 163). Особенно страдали мастера мужской одежды (Там же. Л. 162). Так, во время I Республиканского методического совещания работников индивидуального пошива они даже попросили провести лекцию по новым направлениям в моделировании и конструировании мужской одежды вне плана совещания (Там же. Л. 188).
На все жалобы глава Управления торговли Пермского облисполкома заметил, что директорам ателье не хватает творчества и что «ни недостаток времени, ни отсутствие тканей не должно Вас оправдывать» (Там же. Л. 164). Такой линии ответа на критику региональные партийные чиновники придерживались и позже. Так, когда председатель Березниковского горисполкома Наймушин указал на то, что снабжение ателье не соответствует платежеспособности заказчиков, первый секретарь Пермского обкома КПСС К. И. Галаншиным ответил: «Одним словом, я считаю, что если мы будем работать только “давай, давай”, дело не пойдет. Мы просим от вас инициативы, гибкости, внимательности, и тогда мы можем рассчитывать на хорошую работу» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 235. Л. 133).
По итогам просмотра Министерство торговли РСФСР рекомендовало начальнику Управления торговли Пермского облисполкома А. А. Ичеткину принять меры по улучшению моделирования одежды (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 150). Среди этих мер была организация технического и художественного советов для «разработки и внедрения в производство новых моделей и новых методов обработки изделий» и для «более полного удовлетворения запросов трудящихся на красивую и удобную одежду» (Там же. Л. 25). Технические советы заработали как в Управлении г. Перми, так и в районных бытовых комбинатах (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 107и. Л. 64–65).
Однако не только недовольство руководства заставило Текстильшвейторг Пермской области улучшать качество услуг ателье. В 1960 г. уже было ясно, что потребитель не готов мириться с низким качеством услуг индпошива. Так, в Ателье мод № 1 за девять месяцев 1960 г. были 33 отказа от выкупа заказов и случаи возврата денег на сумму 47 393 рубля по причинам несоответствия фасона и размера пошитой вещи, технических дефектов (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 16), а в г. Соликамске за три месяца 1960 г. клиенты вернули 11 вещей на сумму 7800 рублей (Там же. Л. 17). Низкий уровень моделирования и отставание от моды в местных ателье констатировали и их руководители. Они высказывали мысль о том, что Перми нужны свой Дом моделей и помещение для демонстрации моделей, потому что пропаганды моды силами отдельных ателье недостаточно (Там же. Л. 160-161).
Пока создание отдельной моделирующей структуры для службы быта было в проекте, Тек-стильшвейторг решил стимулировать развитие моделирования в ателье посредством обязательного участия последних в просмотре моделей. Первый в Перми централизованный просмотр моделей в системе индпошива состоялся в Доме офицеров в марте 1961 г. (Там же. Л. 47). Просматривали модели на сезон «Весна - Лето». Первыми манекенщицами выступали сотрудницы ателье, которых освобождали от работы для демонстрации моделей и выплачивали среднесдельную заработную плату за два дня (Там же. Л. 41). Комментатором первого просмотра выступил директор Ателье мод № 10 А. И. Коблов, который получил 50 рублей премии за «хорошую и грамотную дикцию, за правильное пояснение направления моделирования одежды» (Там же. Л. 49). В 1961–1962 гг. просмотры моделей стали регулярными и доступными широкой публике по приглашениям (Там же.
Л. 71), а также по билетам (Там же. Л. 171). Тираж одного из таких приглашений составлял 200 экземпляров. Отчет по Управлению бытового обслуживания Пермской области сообщал, что за 1963 г. и четыре месяца 1964 г. «было организовано 79 просмотров моделей швейных и трикотажных изделий и проведены два областных просмотра перед началом сезона “Весна - Лето” и “Осень -Зима”» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 224. Д. 21). Закройщики и мастера портные, чьи модели получали высокую оценку как смотровых комиссий, так и публики во время показов для населения или художественных советов, получали премии (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 48–49; Д. 224. Л. 27, 82; Д. 438. Л. 16), тогда как директора ателье, которые плохо выступали на просмотре, получали строгие предупреждения (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 49-50).
В 1967 г. «разъяснения и консультации» во время платных показов для населения были обязательным условием включения выручки от показов в объем услуг бытового обслуживания (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 139. Л. 181). Выручка от рекламных показов, во время которых не было разъяснений и консультаций для населения, в этот объем не включалась, а значит, ее нельзя было использовать для отчетов о результатах работы в денежном выражении.
До образования централизованной моделирующей структуры создание новых моделей было ответственностью и серьезной проблемой ателье. Без журналов мод и при плохом снабжении тканями (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 162) каждое ателье или мастерская, получившие письмо об участии в просмотре, должны были подготовить 34 модели как отдельных вещей, так и ансамблей на все сезоны и с разным назначением. Обязательным требованием к моделям, представленным на просмотр, было соответствие актуальному направлению моды (Там же. Л. 216-217). Чтобы хорошо себя проявить во время просмотра, ателье шли на хитрость: «Для моделей мы иногда специально приберегаем отрезы тканей и пошиваем их (модели. – Ю. П .) из лучших тканей», – откровенничал во время совещания заведующий Ателье мод № 4 А. М. Водянин (Там же. Л. 163). Однако эта хитрость выходила ателье боком, потому что одобренную комиссией модную вещь не могли пошить клиенту из-за отсутствия той самой ткани, которой хватило ровно на одну модель для просмотра. В то время разрешалось работать с тканями заказчика только в крайнем случае, предлагая клиентам использовать для пошива те ткани, которые есть в ателье.
Моделирующее подразделение, которое отвечало за создание новых моделей для всех ателье области, - Экспериментальный цех фабрики № 1 индпошива - было организовано только в 1967 г. В нем работали модельеры, конструкторы и искусствоведы. Модельер фабрики № 1 И. С. Румак сообщала, что «(п)ри фабрике организован экспериментальный цех, который будет заниматься разработкой новых моделей, полуфабрикатов. Исчезнут плохие, безвкусно пошитые вещи» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 236. Л. 41). При этом в ателье сохранились ставки модельеров, в чьи обязанности входило консультировать заказчиков по выбору модели и ткани. Экспериментальный цех не только создавал новые модели и пропагандировал моду, но и обеспечивал закройщиков ателье лекалами по новым формам и силуэтам. Последнее было очень важно, потому что качественное лекало является важным условием хорошей посадки готовой вещи. Далее в зависимости от квалификации закройщика лекала Экспериментального цеха получали индивидуальное прочтение в соответствии с особенностями фигуры заказчика.
Таким образом, развитие моделирования в системе индпошива Пермской области началось существенно раньше, чем появилось централизованное моделирующее подразделение, о котором, в частности, написал отраслевой журнал «Служба быта» [ Журавлев , Гронов , 2013, с. 171]. Чтобы стимулировать развитие моделирования, Текстильшвейторг использовал как принуждение в виде обязательного участия в просмотрах моделей и санкции для нерадивых участников, так и материальное стимулирование в виде премий для тех, кто заслужил высокие оценки во время просмотров. Низкая квалификация закройщиков, отсутствие свободной циркуляции ресурсов и информации делали невозможной задачу развития моделирования без внешнего принуждения и контроля.
Между индустриализацией и индивидуальным пошивом
Низкое качество продукции швейных фабрик было в СССР притчей во языцех, поэтому ателье было альтернативой, к которой в 1960-х гг. прибегали многие. Так, начальник Управле- ния бытового обслуживания сообщал, что «каждый третий житель области пошил в наших ателье, мастерских то ли пальто или костюм, то ли платье или свяжет кофту и другие изделия» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 235. Л. 132), а директор фабрики индивидуального пошива № 1 докладывала, что «ателье легкого женского платья делает 400 заказов в месяц» (Там же. Л. 131). При таких масштабах тенденция индустриализации процесса предоставления услуг индивидуального пошива казалась вполне логичной. Официальное наименование объединений ателье фабриками пошива подчеркивало эту тенденцию.
Индустриализация индивидуального пошива принимала разные формы. Наиболее известной из них являлся бригадный метод. Это значит, что заказ конкретного клиента выполнял не отдельный мастер, а бригада, в которой действовало разделение труда. Переход к бригадному методу был обусловлен стремлением повысить производительность труда и минимизировать издержки, прежде всего временные [ Журавлев , Гронов , 2013, с. 162], что для социалистической экономики, ориентированной главным образом на количественные показатели, было вполне логично. В Протоколе заседания областного актива работников службы быта от 1965 г. содержится обязательство со стороны работников «организовать не менее 20 укрупненных бригад численностью до 18 человек по пошиву верхней одежды и легкого платья» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 228. Л. 1). Сегодня бригадный метод в индивидуальном пошиве выглядит как дань фордизму, вытеснившему ремесленное производство и сосредоточившемуся на наращивании объемов, стандартизации качества и углублении разделения труда [ Шевчук , 1998].
Одним из ярких форм индустриализации индпошива было развитие масштабного производства полуфабрикатов одежды, практически готовых изделий, которые требовали только посадки по фигуре. В виде полуфабрикатов выпускали зимние и демисезонные пальто, мужские костюмы, женские платья и платья-костюмы, мужские брюки и трикотажные изделия (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 140. Л. 147-148). Развитие производства полуфабрикатов в начале 1960-х гг. было призвано решить проблему низкой квалификации закройщиков ателье (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 19, 161). Полуфабрикаты раскраивались централизованно, что позволяло внедрять новые модели, обходя закройщиков, которые, по мнению директоров ателье, не проявляли должного творчества, были слабо информированы о современных направлениях моды и плохо воспринимали новое, особенно если источником были более молодые коллеги (Там же. Л. 162). Кроме того, изготовление полуфабрикатов позволяло снизить себестоимость услуги (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 140. Л. 88), чтобы было очень важно в ситуации убыточности собственно индивидуального пошива [ Журавлев , Гронов , 2013].
Среди специалистов сферы индпошива велась серьезная дискуссия о том, не уничтожает ли эта практика саму идею индпошива [Там же], но, видимо, изготовление полуфабрикатов позволяло достигать плановых показателей, поэтому его активно продвигали, в том числе и в Перми. Например, в 1961 г. Приказ по Пермскому областному Текстильшвейторгу требовал довести реализацию полуфабрикатов до 40 % от общего объема реализации изделий (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 10. Л. 48).
Во время заседания областного хозяйственного актива работников службы быта З. В. Никанорова, директор объединения «Прикамье», объясняла, что производство полуфабрикатов выгодно как населению, так и фабрикам индивидуального пошива. Фабрики и быткомбинаты, которые раскраивали полуфабрикаты, разрабатывали и утверждали на художественном совете коллекции специально для этой группы продукции (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 140. Л. 148). Благодаря полуфабрикатам покупатели получали «высокий художественный и эстетический уровень одежды», потому что «ни один полуфабрикат не выпускается без утверждения художественным советом фабрики» (Там же). Чтобы гарантировать реализацию полуфабрикатов в заседании художественного совета участвовали представители райбыткомбинатов, где дошивали полуфабрикаты (Там же) и формировали заказы на полуфабрикаты в соответствии с запросами покупателей (Там же. Л. 89).
Кроме того, покупка полуфабриката в ателье давала возможность индивидуального подбора модели заказчиком и консультации специалиста-закройщика в выборе той или иной модели, позволяла покупателю экономить 10 % по сравнению с заказом вещи в ателье и сокращало срок получения заказа до нескольких часов, максимум двух-трех дней (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 440. Л. 3). Фабрика индивидуального пошива, реализующая большие объемы полуфабрикатов, решала целый ряд задач, важных с точки зрения плановых показателей: повышение производительности труда на 20-25 % за счет максимального использования оборудования, организация ритмичной работы бригад; экономия фонда заработной платы; экономия простых и прикладных материалов при централизованном раскрое 8-10 %; упрощение организации обслуживания сельского населения (Там же). Рост рентабельности был самым важным аргументом в пользу развития направления полуфабрикатов, так как полуфабрикаты реализовывались через собственные салоны ателье, а не через торговую сеть, где «Прикамье» теряло 5,9 % (Там же). Развитие продажи полуфабрикатов в 1960-х гг. свидетельствует о том, что система индивидуального пошива не столько удовлетворяла специфические запросы заказчиков, сколько компенсировала нехватку приличной одежды в торговой сети и, соответственно, утрачивала функции индивидуального пошива в прямом смысле этого слова. Видимо, это направление было хорошо воспринято покупателями, потому что З. В. Никанорова утверждала: «Хотя крайне недостаточна реклама этого вида услуг, но спрос населения возрастает с каждым днем» (Там же).
Вокруг полуфабрикатов предполагалось создать целую инфраструктуру, включая Салон полуфабрикатов, в котором планировалось давать консультации художников-модельеров по правильному подбору к данному ансамблю обуви, сумок, аксессуаров индивидуально для каждого заказчика (Там же. Л. 3–4). Также в салонах планировалось регулярно проводить конференции с заказчиками с демонстрацией направляющей коллекции в зависимости от сезона, предварительно оповещая заказчиков пригласительными билетами и красочной рекламой (Там же. Л. 4). В крупных ателье (например, в «Элеганте», «Светлане», ателье № 4) решался вопрос пошива полуфабрикатов в ансамбле по опыту Венгерской Народной Республики: допустим, пальто, к нему гармонирующие по цвету вязаный берет, шарф, перчатки и т.п. (Там же). Сложно сказать определенно, как в Перми узнали про опыт Венгрии. Можно предположить два источника: во-первых, это лекции во время республиканских совещаний работников индпошива, во время которых слушателям могли рассказывать об опыте стран социалистического блока; во-вторых, венгерский журнал мод Ez a divat, который приходил не только в пермский Дом моделей одежды Минлегпрома. Автор этой статьи обнаружила Ez a divat за 1962, 1964, 1965 и 1966 гг. в местном магазине «Букинист» с пермским адресом на последней обложке.
Однако руководитель Управления бытового обслуживания Пермской области В. Хоро-шутин не считал развитие производства полуфабрикатов удачной стратегией. В то время как в планах на 1967 г. предполагалось «расширить изготовление полуфабрикатов и реализацию их в салонах ателье, мастерских и через выездные приемные пункты» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 143. Л. 7), он предлагал сделать акцент не на полуфабрикатах, а на изготовлении простых готовых вещей, рабочей одежды, детской и мужской одежды, спортивной одежды, шарфов, варежек, рейтуз, шапочек и белья, мотивируя это более высокой ценностью готовых вещей, чем полуфабрикатов для населения (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 140. Л. 2). В отличие от продукции швейных фабрик, которая отшивалась по ГОСТам, массовое производство в сфере индивидуального пошива было организовано «по моделям», которые чаще менялись, «были интереснее», отшивались в нескольких экземплярах (Там же).
Производство полуфабрикатов и идея развития пошива малых серий в ателье пытались компенсировать наиболее существенные недостатки советского массового пошива, из-за которых советский покупатель часто отказывался потреблять продукцию швейных фабрик, что грозило гибелью всей идее индустриальной парадигмы массового производства [ Шевчук , 2000]. Сложно сказать, насколько жизнеспособна была эта попытка создать нечто похожее на гибкую специализацию в условиях социализма, не поддерживая постоянные инновации, необходимые для развития этой индустриальной парадигмы [Там же].
Интересным фактом, вероятно, специфически региональным, является то, что, несмотря на официальные заявления о том, что индпошив является поставщиком индивидуальных услуг, в начале 1960-х гг. массовый пошив играл важную роль в достижении районными ателье и мастерскими плановых показателей в денежном выражении (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 85. Л. 9а).
Например, в Распоряжении по Управлению бытового обслуживания населения Пермского облисполкома № 42 от 22 ноября 1961 г. написано, что предлагается приступить к «переработке дорогостоящей ткани (драпов) и некоторых платьевых тканей для магазинов», чтобы «улучшить общее состояние работы», т.е. загрузить рабочих и выбрать имеющиеся фонды тканей (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 37. Л. 116). Управление предлагало шить зимние и демисезонные пальто из дорогих тканей с шелковой подкладкой и реализовывать их через магазины. В 1962 г., несмотря на заявления о передаче массового пошива Совнархозу, у Управления бытового обслуживания все еще было массовое производство, сконцентрированное на трех предприятиях: Пермской специализированной фабрике централизованного раскроя и пошива швейных изделий, Березниковской фабрике «Красный Урал» и Юговском производственно-бытовом комбинате (Там же. Л. 215).
Более того, для многих мастерских именно массовый пошив был основной деятельностью или составлял значительную часть объема выполненных работ - 54,6 % (Там же. Л. 182), а индивидуальный пошив был новым направлением, который начали развивать в районных центрах в соответствии с указаниями партии и правительства (Там же. Л. 38–39). В районных центрах вновь создаваемые ателье конкурировали с существовавшими ранее мастерскими. Как видно из документов, квалификация работников ателье и мастерских принципиально не различалась (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 232. Л. 35), так как в районах швейные мастерские переводились в ателье II разряда (ГАПК. Ф. Р-476. Оп. 2. Д. 2434. Л. 31). В некоторых направлениях деятельности (например, в производстве трикотажных изделий) индивидуальный и массовый пошив так до конца и не разошлись. Так, экспериментальный цех производственного объединения «Новинка» создавал модели не только для трикотажных ателье, но и для массового производства в цехах, которые входили в его структуру. Даже в 1966–1968 гг. в производственных планах пермских ателье присутствовала отдельная строка «массовый пошив» (ГАПК. Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 143. Л. 56–58).
Таким образом, размежевание массового и индивидуального пошива в пермском Тек-стильшвейторге было непростым, что можно попытаться объяснить двумя причинами. Во-первых, фабрики индпошива производили серии вещей, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос на те категории одежды, которые швейные фабрики Минлегпрома не шили или шили в недостаточном количестве. Во-вторых, сохранение массового пошива в системе бытового обслуживания позволяло выполнять план по валу в денежном выражении. Специалисты отрасли и управленцы чувствовали запрос потребителей, скорее, на мало серийную и доступную, чем на полностью индивидуальную и дорогую продукцию и испытывали давление достижения плановых показателей, но видели разную стратегию решения этих задач.
Заключение
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что поддерживать баланс между достижением плановых показателей реализации продукции и удовлетворенностью клиентов уже в 1960-х гг. было сложной задачей. С одной стороны, индивидуальный пошив в его историческом, ремесленном понимании был плохо совместим с фордистским подходом к производству товаров повседневного спроса, поэтому возник феномен индустриализации индивидуального пошива. С другой стороны, многочисленные ограничения советской экономики, а также растущие и все более индивидуализирующиеся запросы потребителей требовали гибкого управления. Попытка, едва ли достижимая, найти компромисс между экономической реальностью и идеологической корректностью стала основной проблемой для советского индпошива в 1960-е гг.
Развитие индивидуального пошива одежды в Пермской области в 1960-х гг. было достаточно противоречивым процессом. Источниками этого были кадровый голод, недостаток материальных ресурсов и нехватка привлекательной одежды массового производства в торговле. Последнее сформировало в индивидуальном пошиве латентную функцию компенсации недоработок массового производства одежды, которую официально руководители Управления бытового обслуживания Пермской области не признавали. Официально целью индивидуального пошива в службе быта было удовлетворить индивидуальные потребности и вкусы заказчиков, взыскательных людей или людей с выраженными особенностями фигуры. Однако, как видно из документов, местные управленцы демонстрировали заинтересованность в развитии индпошива не в сторону индивидуализации и максимального попадания в запросы клиента, а, напротив, в сторону массовизации, что не соответствовало официальным целям индивидуального пошива.
Развитие индивидуального пошива сопровождалось постановкой нереалистичных и необеспеченных ресурсами целей. Рост сети ателье индивидуального пошива в районных центрах входил в противоречие с исторически сложившейся системой мастерских, которые выполняли те же самые функции. Профессионалы отрасли в выработке своих представлений о стратегии развития ориентировались на то, что им казалась лучшими практиками, в то время как бюрократы-управленцы подчеркивали, что индивидуальный пошив должен включиться в решение краткосрочной задачи удовлетворения платежеспособного спроса на те категории одежды, по которым швейные фабрики «отставали». Впоследствии, в середине 1970-х гг., производство одежды малыми сериями, которые хорошо раскупались, стал развивать пермский Дом моделей одежды Минлегпрома.
Дальнейшая история индивидуального пошива в Пермской области показывает, что ни одна из стратегий, которые упоминаются выше, не получили развития. Система индивидуального пошива в Пермской области в итоге эволюционировала в сторону самого консервативного варианта, в котором возобладал официальный индивидуальный пошив бригадным методом, сводивший до минимума индивидуальность пошива. Вопрос о том, как это произошло, было ли причиной давление центральных органов управления, или отказ от обсуждаемых альтернатив был связан с другими причинами, остается открытым. Кроме того, полученные результаты исследования позволяют поставить следующие вопросы: были ли у областных фабрик индивидуального пошива в 1960-х гг. некоторые возможности в выборе стратегии развития? наблюдаемые альтернативные точки зрения на возможные стратегии развития индивидуального пошива в контексте индустриализации – явление, характерное только для Пермской области или нечто подобное существовало и в других регионах? Все это делает актуальным дальнейшее изучение рассматриваемой в данной статье темы.
Список литературы Индивидуальный пошив одежды в Пермской области в 1960-х годах: советские управленческие дилеммы
- Бартлетт Дж. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 360 с.
- Вайнштейн О.Б. «Мое любимое платье»: портниха как культурный герой в советской России // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 100-126.
- Гангур Д.И. Развитие системы моделирования и производства одежды в Краснодарском крае: дис.... канд. ист. наук. Краснодар, 2022.
- Голодяев К.А. Новосибирский Дом моделей: документальная история // Региональные архитектурно-художественные школы. 2020. № 1. С. 106-114.
- Голубев А.В. Вещная жизнь. Материальность позднего социализма. М.: Новое литературное обозрение, 2022.328 с.
- Журавлев С.В, Гронов Ю. Мода по плану: история моды и моделирования одежды в СССР, 19171991. М.: ИРИ РАН, 2013, 494 с.
- Иванова А.С. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 304 с.
- Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: НП «Журнал "Вопросы экономики"», 2000. 672 с.
- Лебина Н.Б. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР - Оттепель. М.: НЛО, 2015. 208 с.
- Папушина Ю. О. Производство моды во времена позднего социализма: взгляд из провинциального Дома моделей // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2019. № 54/4. С. 266-307.
- Пасс А.А., Рыжий П.А. Огосударствление промысловой кооперации в СССР во второй половине 1950-х: причины и последствия // Социум и власть. № 5(37). 2012. С. 114-122.
- Шевчук А.В. Постфордистские концепции (критический анализ). Казань, 2000. 81 с.
- Шевчук А.В. Фордизм как этап общественного развития // Труд и социальные отношения. 1998. № 3. С. 34-46.
- Юрчак А.В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 644 с.
- Яременко Ю.В. Экономические беседы. Запись С.А. Белановского. М.: Центр исследований статистики и науки, 1998. 343 с.
- Bruke P. Overture. The New History: Its Past and its Future // New Perspectives in Historical Writing. 2d edition. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2001. P. 1-24.
- Chernyshova N. Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era. Routledge, Taylor & Francis: London, New York, 2013.
- Korniienko O. Ukrainian Fashion Houses as Centers of Soviet Fashion Representation // Hungarian Historical Review. 2021. Vol. 10, № 3. P. 495-528
- Nove A. The Soviet Economic System. Third edition. Boston: Unwin Hyman, 1987.
- Zakharova L. S'habiller a la Sovietique. La Mode et le Degel en URSS. Paris: CNRS EDITIONS, 2011.