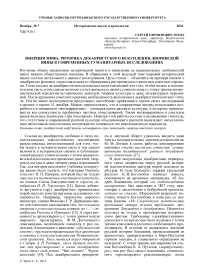Инерция мифа: риторика декабристского искупления дворянской вины в современных гуманитарных исследованиях
Автор: Эрлих Сергей Ефроимович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
Изучение общих механизмов исторической памяти и выявление ее национальных особенностей имеет важное общественное значение. В обращении к этой ведущей теме мировой исторической науки состоит актуальность данного исследования. Цель статьи - объяснить на примере памяти о декабристах феномен «подсознательного» обращения к риторическим стратегиям советского времени. Тогда ссылки на декабристов использовались интеллигенцией для того, чтобы подать в положительном свете и тем самым включить в историческую память сомнительных с точки зрения коммунистической идеологии исторических деятелей, творцов культуры и даже литературных персонажей. После крушения советского режима необходимость включения в декабристский контекст отпала. Тем не менее исследователи продолжают настойчиво привязывать героев своих исследований к памяти о героях 14 декабря. Можно предположить, что и современные авторы испытывают потребность в священном «метанарративе» - универсальном рассказе культуры, к которому привязывается вся совокупность профанных частных повествований. Таким метанарративом в советское время являлись ленинские «три поколения». Новизна этой работы состоит в выдвижении гипотезы, что отсутствие в современной русской культуре объединяющего рассказа вынуждает интеллигенцию неосознанно использовать неоднократно осмеянную ею революционную парадигму.
Декабристский миф герцена, метанарратив "трех поколений", инерция советского дискурса
Короткий адрес: https://sciup.org/14750736
IDR: 14750736 | УДК: 930.1
Текст научной статьи Инерция мифа: риторика декабристского искупления дворянской вины в современных гуманитарных исследованиях
Ссылка на декабристов, особенно в эпоху по-слесталинских идеологических послаблений, использовалась интеллигенцией для того, чтобы подать в положительном свете и тем самым включить в историческую память и публикационный процесс сомнительных с точки зрения советской идеологии исторических деятелей, творцов культуры и даже литературных персонажей. Так, для авторов школьного учебника литературы важно было указать, что Евгению Онегину « близок » П. П. Каверин, который был не только « щеголем и постоянным участником кутежей », но членом Союза благоденствия и « другом декабриста Н. И. Тургенева » [14]. Кроме лобового аргумента «друг декабристов», применялись порой искусно конструируемые ассоциации «по смежности». Например, творчество царского министра, «певца Фелицы» Г. Р. Державина ценно для советских школьников тем, что « сильные стороны его поэзии оказали влияние на <…> декабриста Рылеева и Пушкина » [13]. А «прогрессивность» архискверного, с точки зрения вождя мирового пролетариата, Ф. М. Достоевского доказывалась включением писателя в ряд сидельцев Алексеевского равелина: « Достоевский вместе с другими петрашевцами был арестован и заточен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Здесь томился перед отправкой в Сибирь А. Н. Радищев, здесь прошли последние дни приговоренных к казни декабристов, здесь писал свой роман “Что делать?” Чернышевский » [14]. Под декабристским прикрыти-
«трех поколений», инерция советского дискурса ем в научный оборот удавалось вводить даже тексты подозрительных масонов-космополитов. Ю. М. Лотман в своих работах конспиративно именовал «чисто масонские сочинения “агитационными памятниками” раннего декабристского движения» [17].
В деле искупления декабристами первородного греха дворянства перед русской историей идеологическая цензура порой доходила до абсурда. В годы Большого террора уральский филолог К. В. Боголюбов написал повесть, основанную на архивных материалах, об Андрее Лоцманове, который «за свободолюбивые настроения» был арестован в 1827 году, приговорен к заключению в Бобруйской крепости, «однако не сдался». Московский рецензент поставил повесть Боголюбова в один ряд со сказами Бажова. «Но Свердловское издательство предъявило автору нелепое требование: превратить Лоцманова в декабриста». Нелепость состояла не только в противоречии историческим фактам. Требование «декабристизации» уральского вольнодумца было нелепым с точки зрения классовой идеологии «победившего пролетариата». В отличие от дворянских деятелей русской истории Лоцманов, происходивший из крепостных, прикрепленных к Верх-Исетским горным заводам, в социальном оправдании не нуждался1. С точки зрения, как выражается ученик Боголюбова Б. А. Путилов, «партредакту-ры», как раз был смысл восславить сознательного «пролетарского революционера» эпохи дворянского этапа освободительного движения, предвестника грядущей бури – движения самих масс. Но, видимо, страх выскочить за флажки «трех поколений» приводил в то суровое время к тому, что все «прогрессивные» проявления первой половины XIX века записывались в актив либо самих мятежников 14 декабря, либо, как тогда выражались, признавались «отголоском движения декабристов». В решении задачи по принятию крепостного Лоцманова в тайное общество дворянских революционеров сталинские большевики обошлись и без К. В. Боголюбова, который отказался от профанации профессии ученого [15]. Об этом можно судить по тому, что выражение «декабрист Лоцманов» стало штампом уральского диалекта советского новояза, не изжитым до сих пор: «Андрей Лоцманов, наш уральский декабрист» [4], «Андрей Лоцманов, тоже екатеринбуржец <…> и, как ни странно, декабрист» [16], «Андрей Васильевич Лоцманов <…> был обвинен по делу декабристов» [18].
Инерция культуры приводит к тому, что уловка советской интеллигенции продолжает использоваться и в современной ситуации, когда в этом нет никакой необходимости.
Работающий в США украинский историк С. Плохий ищет авторов знаменитого апокрифа « История русов », позднее ставшего одним из идейных источников украинства. Этот политический документ рассматривается в контексте его времени, которое определяется исследователем промежутком 1816–1818 годов. Согласно Пло-хию, « История » представляла попытку « части потомков казацкой старшины » получить права, « равные правам русского дворянства ». Предполагаемые авторы апокрифа по географическим и историческим приметам текста локализуются в окрестностях Стародуба в семействах Гудовичей и Миклашевичей, покровительствуемых выходцами из казацкой старшины А. Безбородко, П. Завадовским, Д. Трощинским. Рецензент недоумевает, почему историк, аргументированно выводящий « Историю русов » из силового поля мифа украинства, необоснованно вводит ее в контекст декабристского мифа. « Одних только родственных связей “подозреваемого” Михаила Миклашевского (его сын и зять были декабристами) и визитов некоторых декабристов к Д. Трощинскому явно недостаточно », чтобы строить предположения о « причастности декабристов к работе над текстом “Истории Русов” или существенного влияния на ее авто-ра/авторов » [12]. Кроме как инерцией позднесоветских представлений «декабристизацию» источника украинской национальной мифологии объяснить невозможно.
Уральский писатель, кандидат философских наук В. П. Лукьянин вспоминает о своем старшем коллеге Л. Н. Большакове, которому «удалось установить, что авторство анонимной рукописной книги “Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии 1821 года”, обнаруженной им среди раритетов областной оренбургской библиотеки, принадлежит декабристу Павлу Ивановичу Пестелю». Благодаря этому сенсационному открытию, пишет Лукьянин, на небосклоне русской литературы загорелась неизвестная по другим сочинениям Пестеля «звезда в созвездии писателей пушкинской поры». После этих безапелляционных утверждений об установлении авторства делается оговорка, что далеко не все специалисты признали открытие Большакова, несмотря на то что тот «добросовестно и убедительно разобрался с контраргументами своих оппонентов, но, кажется, и по сей день специалисты-историки сомневаются, что автор “Обозрения” – Пестель». Лукьянин заключает: «Допускаю, что их сомнения обоснованы» [9]. При этом он допускает удивительное для кандидата философских наук логическое противоречие заключения с исходным тезисом: «удалось установить». Мы в очередной раз убеждаемся, как миф интеллигенции сокрушает логику интеллигента-шестидесятника.
По принципу временной близости известный историк А. Л. Юрганов увязывает с 14 декабря свое «феноменологическое» исследование об Алексее Лазареве – прототипе толстовского персонажа « Войны и мира », застрелившегося в апреле 1825 года после более чем пятилетнего пребывания « на гауптвахте под судом (за нанесение побоев двум гражданским лицам) ». Рецензент считает, что казус Лазарева мог быть более органично вписан в другие исторические контексты – « стать эпизодом в истории уголовной юстиции России первой четверти XIX в. или, с еще большим успехом, – в истории представлений о чести ». Но « историк-феноменолог » интерпретирует судьбу своего героя в символическом ключе: « Символично и то, что самоубийство Лазарева произошло незадолго до восстания декабристов, которые могли знать о судьбе прапорщика » [7].
Ш. Акчурин рассматривает эпиграмму 1826 года поэта-гусара Д. В. Давыдова на князя П. И. Шаликова. Князь П. А. Вяземский в письме от 25 февраля 1827 года объяснил причину появления едкого текста: « Вот история эпиграммы его: князь Шаликов называл где-то и как-то Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персиянами ». Но современному исследователю объяснения вне контекста « поляризации общественного сознания » недостаточно. По инерции советского гуманитарного ритуала ему надо обязательно мотивировать « оплеушину с закуской », выданную защитником Грузии от персов грузинскому князю, глубинными классовыми противоречиями. Благодаря временной близости незначительный межличностный конфликт увязывается с « настроением московского общества после подавления дворянского восстания
14 декабря ». Указывая «декабристскую» причину личной неприязни, которую « свободолюбивый “казак-партизан” » испытывал к потерпевшему « реакционеру по должности », автор признает, что генерал-майор Давыдов « не разделял » радикальных взглядов декабристов. «Поляризация» его сознания произошла по причинам скорее не идейного, а корпоративного свойства – из-за повешения 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости двух участников Отечественной войны П. И. Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола: « Казнь младших соратников по войне 1812 года не должна была оставить Давыдова равнодушным, и тлевшая неприязнь боевого генерала к газетчику Шаликову <…> обострила до пределов чувства Давыдова, и последовал взрыв » в виде той самой «оплеушины» [1]. Такое «обострение до пределов», никак не подтвержденное источниками декабристского контекста (просто «не должна была оставить равнодушным»), является еще одним свидетельством мощи декабристского мифа.
Филолог из Ханты-Мансийска М. М. Рябий анализирует под «лозунгами “Святой Руси” или “православного сознания”» эволюцию идеи «чисто русской России» от московских любомудров к московским же славянофилам. Несмотря на идеологический настрой исследования, который явно противоположен расхожим представлениям о «декабристах-западниках», автор именует так называемое «Общество любомудров» «продека-бристским» и, следовательно, «политическим». Свои заключения он основывает на цитате из записок «любомудра» и «славянофила» А. И. Кошелева: «Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым их прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание». Рецензент считает, что прежде всего уместно задаться вопросом: насколько воспоминания Кошелева соответствуют действительности? Так как цитированные «Записки» представляют «единственное свидетельство существования московского “любомудрия”». Но даже если источник достоверен, то невозможно признать выводы о «политическом» и, тем более, «продекабристском» характере «бесед» молодых москвичей, сделанные автором рецензируемой работы. Чтобы согласиться с оценкой рецензента, достаточно прочитать приводимое им свидетельство самого мемуариста, что содержанием их дружеских заседаний было чтение собственных «философических сочинений» и беседы о «творениях немецких любомудров», таких как «Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гёррес и др.» [6]. Советские историки при всем своем стремлении расширить декабристские ряды не заходили так далеко. Даже главному советскому декабристоведу М. В. Нечкиной не пришло в го- лову объяснять сжигание после 14 декабря устава и протоколов «общества любомудрия» «про-декабристскими» настроениями его участников. Она корректно упоминает «Записки» Кошелева как свидетельство «невиданной тревоги», воцарившейся в русском обществе после 14 декабря [10; 394]. «Продекабристское» толкование источника, осуществленное автором православномонархического толка, представляет яркое свидетельство укорененности декабристского мифа в «подсознании» современной культуры.
Поэт и литературный критик А. Я. Истоги-на исследует философские проблемы в поздней лирике Е. А. Баратынского, настойчиво включая великого поэта в декабристский контекст. С одной стороны, исследователь признает, что « поэтов-декабристов » А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева « не вполне удовлетворяло его творчество, ибо в нем отсутствовали гражданские мотивы ». Но это признание не препятствует заключению о симпатии Баратынского к планам гражданских преобразований его поэтических приятелей: « Он не был активным противником режима, но, безусловно, симпатизировал оппозиционерам ». Поэтому « преддекабрьское воодушевление » проникло и в лирику пассивного противника режима. Последующие жизнь и творчество равнодушного к «гражданским мотивам» Баратынского определяются « гнетущей эпохой постдекабризма»: «Он был тяжело, если не смертельно ранен расправой над декабристами»; «Разгром декабристов довершил пессимистический колорит его мировосприятия»; «Исторически объяснимое поражение практической программы декабризма представилось ему крахом вольнолюбивых идеалов ». О тайном сочувствии Баратынского казненным «братьям» нельзя рассуждать сколь-нибудь доказательно: « В письмах Баратынского нет намеков на 14 декабря, в стихах – слабый отзвук ». Тем не менее автор делает категоричный вывод исходя из того, что « друг и родственник » Н. В . Путята присутствовал при казни декабристов: « наверняка рассказ его потряс поэта ». Молчание по поводу судьбы осужденных дает А. Я. Истогиной основание для исчерпывающего описания чувств поэта: « Невозможность открытого сочувствия осужденным тяготила сознанием собственного бессилия, невольной робости перед карателями, и чувство это было беспросветно унизительным » [3]. Характерное сближение слуг николаевского режима с немецко-фашистскими оккупантами через анахроничное эпохе Баратынского слово «каратели» свидетельствует, что порожденная герценовским мифом ненависть к дракону самодержавия полностью разделяется нашей современницей.
Историк из Екатеринбурга В. П. Леднев рассказывает о династии уральских горнозаводчиков Лугининых. Начинает он с того, что клеймит
« марксистов-ленинцев », которые в недавнем прошлом « делали все, чтобы вытравить из сознания русских людей не только православную веру, но и тех людей, особенно дворянского и купеческого происхождения, чьим трудом были освоены Урал и Сибирь ». Тем не менее автор не усматривает противоречия с заявленным «антимарксистским» тезисом, когда освещает эпизодические, с точки зрения исследуемой темы, связи «трудовой династии» с «предками» травивших православную веру большевиков. Лу-гинины « оказались связаны с декабристами » многими нитями. Молоденький прапорщик Генерального штаба Ф. Н. Лугинин « познакомился в Кишиневе с А. С. Пушкиным », был знаком со многими декабристами, « примыкавшими к Южному и Северному обществам ». А еще через жену В. П. Полуденскую он породнился с « декабристом М. С. Луниным ». Впоследствии одна из внучек Лугинина вышла замуж за В. М. Волконского, « внука известного декабриста С. Г. Волконского ». Насыщенное общение с представителями «первого поколения» и их отпрысками привело к тому, что « в семье с уважением относились к идеям декабристов и все стремились к улучшению жизни русского народа, тянулись к знаниям, науке, просвещению и искусству ». Одним из последствий основанной на идеях декабристов тяги к знанию, науке, просвещению стала выдающаяся научная карьера сына Ф. Н. Лугинина – Владимира (1834–1911), одного из создателей термохимии в России. Он стал, как выразился профессор Леднев, « профессором МГУ им. М. В. Ломоносова » [8]. Духовное и физическое родство с декабристами привело будущего профессора Лугинина к общению с разбуженным ими Герценом и даже сватовству к его дочери Тате.
Член-корреспондент РАН, доктор физикоматематических наук Д. П. Костомаров записал в наши дни семейные предания о русском городе Карсе. При этом он, разумеется, не мог не сказать несколько слов о знаменитом Н. Н. Муравьеве-Карском. Среди этих немногих слов оказывается и неизбежная в советское время при упоминании видного «царского генерала» привязка к декабристам: «Был одним из организаторов декабристских кружков, потом от движения отошел, однако после поражения декабрьского восстания продолжал выступать за отмену крепостного права». Участники «Священной артели» (1814–1817) молодых офицеров Генерального штаба, объединившихся, чтобы «нанять общую квартиру, держать общий стол и продолжать заниматься для образования себя» (Н. Н. Муравьев), не могли знать, что впоследствии их действительно несколько вольнодумный «кооператив» назовут «конспиративной организацией в предыстории декабристского движения» [11; 71, 80]. Даже советский академик Неч- кина не решилась назвать «конспиративную», по ее, несомненно, преувеличенному мнению, организацию «декабристской», отнеся ее к «предыстории» тайных обществ. Поскольку в тайные общества Н. Н. Муравьев не вступал, то и отойти от «движения» не мог. Но Д. П. Костомаров, автоматически действуя по советским шаблонам, «нагнетает» декабризм своего героя. Он извиняет его «отход» от «движения» тем, что и «после поражения» тот все-таки «продолжал». С той же целью он вставляет в коротенький рассказ о Карсе сведения о принадлежности к декабристам двух братьев Муравьева-Карского. Мы видим, что инерция времени, когда «хвалить <…> царских генералов было небезопасно», продолжает корежить историческое повествование согласно мифологеме ленинских «трех поколений» [5].
Рецензируя биографию Мережковского, подготовленную Ю. В. Зобниным для серии ЖЗЛ, М. Ю. Эдельштейн приводит пример создания автором « сомнительного вкуса эффектов » путем «вчитывания» в сакральный декабристский контекст лекций о современной автору трилогии « Царство зверя »2 « русской литературе»: «Читаны эти лекции были <…> 8 и 15 декабря 1892 года в аудитории Соляного городка <…> Даты, конечно, выбраны не случайно – поклонник декабристов Мережковский ощущал себя революционером, “выходящим на площадь”, чтобы сказать “новую истину” ». Приложение к «литературоведению» Мережковского анахроничного парафраза «декабристской» цитаты Галича свидетельствует не только об отсутствии чувства истории, но и погруженности в миф русской интеллигенции. Рецензент иронизирует по поводу произведенного нашим современником насилия над фактами, необходимым для создания «декабристского» мифологического эффекта: « Мережковский, ощущающий себя наследником декабристов, – предположение не хуже всех прочих. <…> Однако зачем же в угоду эффектной догадке умалчивать о том, что одна из лекций впервые читалась Мережковским еще 26 октября в Русском литературном обществе? В конце концов, “октябрист” – тоже красивое слово » [19].
Инерция культуры, несомненно, повлияла на трактовку следующих строк стихотворения О. Э. Мандельштама: « Кому зима – арак и пунш голубоглазый » (1921 или 1922):
Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит.
М. Л. Гаспаров с одобрением приводит толкование своего израильского коллеги Д. Сегала, который усматривает под «заговорщиками», с одной стороны, мятежников 14 декабря, отступающих через Неву после расстрела правительственной картечью, а с другой – «отару» большевиков, наступающих на мятежный Кронштадт. В предлагаемой интерпретации «снег», покры- тый «хрупким настом», оборачивается и невским, и кронштадтским льдом. После таких вольных допущений вывод израильского филолога обретает железную логику: «Это стихотворение дышит живой политической страстью, дышит ненавистью к тиранам и любовью к свободе. Но уроки неудачного восстания декабристов и столь же неудачного кронштадтского восстания против большевиков диктовали необходимость отказа от борьбы “в отаре”. Они диктуют поэту позицию Диогена, одинокого искателя правды» [2]. Это смелое заключение, на мой взгляд, свидетельствует лишь о подспудном влиянии декабристского мифа, который был «вчитан» в текст Мандельштама при отсутствии достаточных к тому предпосылок.
Мы видим, что и после крушения советского режима исследователи продолжают настойчиво встраивать героев своих исследований в декабристский контекст. На чем основана эта инерция? Можно предположить, что и современные авторы испытывают потребность в священном «метанарративе» – универсальном рассказе культуры, к которому привязывается вся совокупность профанных частных повествований. Таким метанарративом в советское время являлись ленинские «три поколения». Отсутствие в современной русской культуре объединяющего рассказа вынуждает интеллигенцию неосознанно использовать неоднократно осмеянную ею революционную «благую весть» о тех, кто разбудил Герцена.
MYTH INERTIA: RHETORIC OF DECEMBRIST REDEMPTION OF NOBILITIES’ GUILT IN MODERN HUMANITARIAN RESEARCH
Список литературы Инерция мифа: риторика декабристского искупления дворянской вины в современных гуманитарных исследованиях
- Акчурин Ш. К истории эпиграммы Д. В. Давыдова на князя П. И. Шаликова//Нева. 2005. № 6 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/neva/2005/6/ak35-pr.html
- Гаспаров М. Л. Мандельштамовское «Мы пойдем другим путем»: о стихотворении «Кому зима -арак и пунш голубоглазый..»//Новое литературное обозрение. 2000. № 41 . Режим доступа: http://magazines. russ.ru/nlo/2000/41/gasparov.html
- Истогина А. «Исмерть, и жизнь, и правда без покрова.. »: О некоторых философских проблемах в поздней лирике Евгения Баратынского//Континент. 2000. № 106 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/continent/2000/106/ist.html
- Исхаков Р. Университеты литературного критика//Проза.ру. 2012. Режим доступа: http://www.proza.ru/2012/12/17/2172
- Костомаров Д. В разные годы//Дружба народов. 2002. № 4 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/4/kost-pr.html
- Кошелев В. А. Нечто о «чисто русской России». Рец.: Рябий М. М.« Да, чисто русская Россия пред нами явится видней!»: От любомудрия к славянофильству. М.: Пашков дом, 2007. 384 с.//Новое литературное обозрение. 2008. № 92 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/92/ko33.html
- Кром М. М. «Зрячий миф», или Парадоксы «исторической феноменологии». Рец.: Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевидности. М.: РГГУ, 2003. 385 с. (История и память)//Новое литературное обозрение. 2004. № 68 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/kro27-pr.html
- Леднев В. Уральские заводчики Лугинины и их потомки//Урал. 2002. № 12 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ural/2002/12/ledn.html
- Лукьянин В. Проба времени -судьба человека//Урал. 2013. № 8 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ural/2013/8/20l.html
- Нечкина М. В. Движение декабристов. М.: Изд-во АН СССР,1955. Т II. 507 с.
- Нечкина М. В. К вопросу формирования политического мировоззрения молодого Пушкина («Священная артель»)//А. С. Пушкин. 1799-1949. Материалы юбилейных торжеств. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 71-101.
- Осипян А. «Самые опасные книги», исторические мифы и ответственность интеллектуалов. Рец.: Krebs Ch. B. The most dangerous Book: Tacitus’s Germania from the Roman Empire to the Third Reich. N. Y.; L., 2011; Plokhy S. The Cossack Myth: History and Nationhood in the Ages of Empires. Cambridge; N. Y, 2012//Новое литературное обозрение. 2013. № 121 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2013/121/30o.html
- Пономарев Е. Учебник патриотизма (литература в советской школе в 1940-1950-е годы)//Новое литературное обозрение. 2009. № 97 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/97/po3.html
- Пономарев Е. Чему учит учебник//Нева. 2010. № 7 . Режим доступа: http://magazines.russ. ru/neva/2010/7/po10-pr.html
- Путилов Б. Константин Васильевич, или Мамист № 1//Урал. 2007. № 8 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ural/2007/8/pu20.html
- Рытвина Л. Династия Лоцмановых//Уральский рынок металлов.2001. № 3. Режим доступа: http://www.urm.ru/ru/75-journal40-article190
- Серков А. И. Масонские доклады Газданова//Новое литературное обозрение. 1998. № 31 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/1998/31/serkov.html.
- Хроника культурной и литературной жизни Среднего и Южного Урала. 2012. 22 марта . Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-155463.html
- Эдельштейн М. Биография как текст и контекст. Рец.: Юрий Зобнин. Дмитрий Мережковский. Жизнь и деяния. М.: Молодая гвардия, 2008. 448 с. («Жизнь замечательных людей»)//Новый мир. 2009. № 8 . Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/8/ed15.html