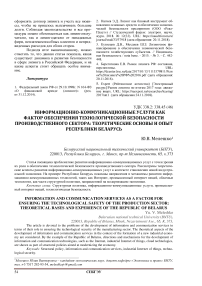Информационно-коммуникационные услуги как фактор обеспечения технологической безопасности производственного сектора: теоретические основы и опыт республики беларусь
Автор: Мелешко Юлия Викторовна
Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps
Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса
Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблематике развития информационно-коммуникационных услуг с точки зрения их роли в обеспечении технологической безопасности производственного сектора. Рассмотрены теоретические аспекты развития информационно-коммуникационных услуг в контексте становления новой индустриальной экономики. На примере Республики Беларусь показаны направления и механизмы развития информационно-коммуникационных технологий, таких как Интернет, промышленный интернет вещей, облачные технологии, как части структурной политики, направленной на модернизацию экономики.
Структурная политика, информационно-коммуникационные услуги, промышленный интернет вещей, технологическая безопасности
Короткий адрес: https://sciup.org/148319934
IDR: 148319934 | УДК: 338.2:
Текст научной статьи Информационно-коммуникационные услуги как фактор обеспечения технологической безопасности производственного сектора: теоретические основы и опыт республики беларусь
В качестве одной из задач обеспечения научно-технической безопасности Республики Беларусь определено «создание новых производств, секторов экономики передовых технологических укладов, интенсивное технологическое обновление базовых секторов экономики и внедрение передовых технологий во все сферы жизнедеятельности общества» [1]. Для Беларуси, как традиционно индустриальной страны, модернизация экономики будет базироваться на трансформации реального сектора экономики. Изучая кризис наноиндустрии, С. Ю. Солодовников пришел к выводу, что «сущность и особенности современной структурной политики в контексте технологической модернизации экономики заключаются не в создании наноиндустрии, а в осуществлении новой индустриализации, в том числе и с использованием нанотехнологий, обеспечивающих развитие и повышение конкурентоспособности традиционных и новых индустрий» [2]. Именно новая индустриализация, обеспеченная «современной системой государственного планирования и управления, с широким привлечением к этому процессу институтов общественногосударственно-частного партнерства и мобилизации для этого процесса необходимых социальных, человеческих, материальных, финансовых, предпринимательских и институциональных ресурсов» [3], по справедливому мнению данного автора, должна стать основой структурной политики, ориентированной на модернизацию реального сектора экономики, и в первую очередь - промышленности. Важно учитывать, что «по мере модернизации народного хозяйства будет усиливаться многоукладный, смешанный характер белорусской экономики» [4], проявляющийся, во-первых, в развитии наукоемких и высокотехнологичных отраслей, во-вторых, в цифровой трансформации традиционных отраслей. Модернизация традиционных отраслей не менее важно, чем развитие новейших отраслей. Увлечение новейшими технологиями, концентрирующими интеллектуальные, трудовые и финансовые ресурсы, приводит к отставанию в традиционных укладах, которые зачастую дают больший экономический эффект. В этом контексте важнейшей задачей государственной политики становится сбалансированность ресурсы: «при строительстве новых и модернизации старых предприятий необходимо определить источники получения всех необходимых для этого ресурсов: человеческих, технологических, материальных, финансовых, предпринимательских, институциональных» [5]. Значение всех перечисленных ресурсов одинаково важно для проведения новой индустриализации, но «в различные периоды времени может наблюдаться нехватка (де- фицит) какого-либо из них» [6, c.43], что еще больше повышает роль государства в переходе к новой индустриальной экономике.
Новая индустриализация предполагает широкое использование информационнокоммуникационных технологий, что обусловлено, с одной стороны, увеличением доли высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности, требующих обработки большого количества информации, с другой стороны -цифровизацией традиционных отраслей промышленности. Использование информационнокоммуникационных технологий для решения конкретных бизнес-задач, когда каждое цифровое решение улучшает отдельный участок работы, стало логическим продолжением процесса автоматизации, начавшейся еще с использованием электромеханических устройств и углубившейся с применением ЭВМ и микропроцессорной техники. Компьютеризация как стадия автоматизации направлена на замещение человека устройствами и приборами в управлении производственными процессами, их проектировании и контроле. Следующий качественный скачок в применении информационных технологий в промышленности связан с интеллектуализацией производства. «Цифровая трансформация экономики выражается не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации технологических объектов и систем, интеграции информационных и операционных технологий» [7, c.17], - отмечают Г.И. Идрисов и др. Интеллектуализация производства приводит к новым способам создания добавленной стоимости, появляющимся на стыке виртуальной реальности и материального мира.
Центральное место среди информационно-коммуникационных технологий сегодня занимает Интернет, позволяющий объединить компьютеризированные еще в результате третьей промышленной революции производства, на межотраслевом, межрегиональном и международном уровнях. «… Интернет вещей, межмашинное взаимодействие и производство, которое становится все умнее, ознаменовали новую эпоху - четвертую индустриальную революцию, Индустрия 4.0» [8], - отмечают специалисты в области Индустрии 4.0. С технической точки зрения, в производстве Интернет выполняет организационную (объединяет различные элементы производства в единую информационную сеть), коммуникационную (обеспечивает взаимодействие между субъектами промышленного производства) и информационную (производит расчеты, сбор и анализ данных) функции.
Компьютеризация оборудования и продукции в сочетании с распространением Ин- тернета стали основой для создания Интернета вещей (англ. Internet of Things, IoT), представляющего собой концепцию вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Однако, как справедливо отмечает С. Грингард, «польза подключенных устройств не в том, чтобы с помощью приложения для смартфона заводить двигатель или регулировать температуру в доме. Реальная польза появится, когда целые сети устройств будут обмениваться данными и применять их на практике» [9, c. 120]. Концепция интернета вещей предполагает объединение множества средств измерения в сети и выстраивания межмашинного взаимодействия (технология М2М), в рамках которого устройства обмениваются информацией через Интернет без участия человека. В совокупности с иными информационнокоммуникационными технологиями, такими как большие данные, искусственный интеллект, система распределенного реестра и т.д., Интернет формирует облик современного промышленного производства, для обозначение которого используется термин «умный завод», а для самой продукции – «умная продукция».
Информация, полученная от интернета вещей, становится основной для «умных» решений: «умное» производство, «интеллектуальные» сети, «умный» город, «умный» транспорт, «умная» логистика, «умный» дом, «умное» сельское хозяйство, «умные» решения для потребительского рынка, «умное» здравоохранение. «Завершающий структурный компонент промышленного интернета – построение систем, использующих машинный (или искусственный) интеллект для автоматизации процессов и решений, – пишет С. Грингард. – Выведение человека из контура управления повышает скорость и производительность, что коренным образом изменит бизнес, систему образования и государственное управление» [9, c. 83]. На «умном заводе» производственное и складское оборудование без участия человека обменивается информацией, инициирует действия и контролирует друг друга. «Умные продукты» идентифицируются и локализуются в любое время, что позволяет получить информацию об истории, текущем состоянии и направлении их движения. Вся производственная система вертикально взаимосвязана с бизнес-процессами и производственными сетями в режиме реального времени от заказа до конечного потребителя. Вокруг «умной фабрики» и жизненного цикла «умного продукта» формируются кибер-физические производственные системы, объединяющие людей, объекты и системы с их услугами и приложениями, и создающие тем са- мым интеллектуальное производство. Благодаря интернету вещей становится возможным перевести процесс планирования и принятия решений на качественно иной уровень: становится возможным контроль потребления и использования в реальном времени, немедленная реакция на событие или ситуацию.
Для полноценного функционирования интернета вещей требуется также и соответствующее развитие сопутствующих услуг (услуг связи, услуги по сбору и обработке данных и т.д.). Так, специалисты отмечают: «Внедрению будущих сценариев Индустрии 4.0 способствует дальнейшее развитие соответствующей сетевой инфраструктуры и дифференциация сетевых услуг посредствам соглашений об обслуживании» [10]. Подчеркивая взаимозависимость развития сетевой инфраструктуры и услуг, в концепции развития Индустрии 4.0 в Германии широко используется термин «интернет вещей и услуг».
Влияние Интернета на деятельность промышленного предприятия не ограничивается решением технических задач. И. А. Стрелец обращает внимание на изменение поведения экономических субъектов под влиянием распространения Интернета. Этот автор полагает, что хозяйствующие условия благодаря повсеместному доступу к информации, ее открытости и равнодоступности, стали более прозрачными, а степень риска и непредсказуемости коммерческой деятельности снизилась. «… потребительское поведение в условиях информационных технологий в большей степени соответствует ортодоксальной модели homo economicus с ее неограниченными когнитивными способностями, так как потенциальные возможности рациональности превращаются в реальные поведенческие функции под влиянием новых информационных технологий» [11, c. 72]. Далее автор поясняет: «Прозрачность рыночных трансакций постепенно приобретает всеобщий характер, и экономические субъекты исходят из ее наличия при принятии решений» [11, c. 72].
Гипотеза о доступности и прозрачности информации благодаря Интернету появилась в начале 2000-х годов, когда Интернет только начал распространяться на глобальном уровне. Однако сегодня уже стало очевидным, что то изобилие информации, рассеянной повсеместно через Интернет, скорее призвано создать требуемый контент и тем самым моделировать поведение субъектов хозяйствования (метод общественно-функциональных инноваций), нежели информировать потребителя о качественных характеристиках товара с целью максимизации полезности или создать более равные конкурентные условия среди производителей. Т.В.
Сергиевич указывает на изменение законов спроса под влиянием единого информационного пространства: «Уже не спрос рождает предложение, и не предложение рождает спрос. Действительно, в отличие от классической модели, предприятия контролируют и моделируют поведение потребителя, навязывая потребности, обеспечивают индивиду их удовлетворение, а себе – сбыт продукции, оправдывая растущие объёмы производства» [12, c. 199].
Сегодня Интернет является одним из наиболее эффективных инструментов информационного воздействия на потребителя. Вместе с тем утверждение И. А. Стрельца о том, что «Интернет оказывает сегодня такое огромное влияние на деятельность фирмы, что сетевые возможности рассматриваются уже не в качестве конкурентного преимущества, а в качестве необходимой предпосылки для ведения бизнеса на современном уровне, соответствующем мировым представлениям о квалифицированной фирменной деятельности» [11, c. 75]. Более того, использование Интернета (не только в маркетинговых целях, а как инфраструктуры бизнес-процессов – с целью взаимодействия с клиентами и контрагентами, внутрифирменного взаимодействия, использования в производственном процессе, то есть как Интернета вещей) становится необходимым условием конкурентоспособности промышленного предприятия в новой индустриальной экономике.
Несмотря на глобальный характер тренда цифровизации промышленности, эксперты указывают на неоправдавшиеся ожидания: «Интернет-эпоха по масштабу технологических изменений кажется сопоставима с появлением электричества, автомобиля, химии. Однако экономический эффект от тех технологических революций был многократно выше, чем от информационной революции последних десятилетий» [13, с. 11]. В качестве подтверждения приводятся темпы роста производительности труда, поскольку «комплексный учет условий, в которых реализуется трудовой потенциал, позволяет использовать это социальноэкономическое явление в целях системного анализа состояния и динамики экономических процессов для составления прогнозов и принятия обоснованных управленческих решений» [14, с. 263], - пишет Т.В. Сергиевич. В результате прежних технологических революций производительности труда росла в среднем на 2% в год, сегодня же рост составляет лишь 0,3% [13, с. 11]. Причины, по мнению экспертов, кроются во все еще недостаточно широком распространении информационных технологий. Найдя применение в финансовом и банковском секторах (и кардинально изменив их), цифровые технологии внедряются в промышленность в неожиданно меньшей степени и не такими быстрыми темпами, что не позволяет перейти к масштабному улучшению производительности. Сдерживающим фактором для предприятий промышленности остается не всегда очевидные преимущества от внедрения информационных технологий и их высокая стоимость, а их чрезвычайное многообразие затрудняет выбор. Более глубокая причина кроется в конфликте интересов при определении приоритетов, на который обращает внимание С. Ю. Солодовников: «проведение модернизационной структурной политики подразумевает концентрацию ресурсов на секторах экономики и отдельных экономикообразующих предприятиях, которые должны обеспечить технико-технологическую модернизацию страны, а логика современного рынка (когда крупные предприятия, как правило, находятся в акционерной, т.е. коллективной собственности) требует от руководства частных компаний обеспечивать постоянный рост капитализации организации (рост котировки акций более быстрый, чем у конкурентов на рынках ценных бумаг), повышение ее доходности и т.д.» [5]. Выбор предприятия между текущим ростом и стратегическим развитием будет зависеть от множества факторов, в том числе от размера, формы управления, текущей конкурентоспособности и проводимой структурной политики государства.
В Республике Беларусь развитие информационно-коммуникационных технологий осуществляется в рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [15], включающей в себя подпрограммы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и инфраструктуры информатизации. В качестве одного из приоритетных направлений развития в данной области определено «увеличение объема производства и безопасного потребления высокотехнологичных и наукоемких ИКТ ( информационнокоммуникационных технологий - примечание Ю. М. ) товаров и услуг» [15]. Однако в данном программном документе основной упор делается на расширение потребления информационно-коммуникационных услуг в области образования, здравоохранения, государственного управления, а не в сфере промышленности. Вместе с тем, руководством нашей страны отмечается: «Ускоренная информатизация – это не дань моде. Это залог выживания и конкурентоспособности всей экономики… Главная задача – внедрить информационные технологии в каждую отрасль» [16, c. 6].
В 2012 г. в Беларуси был создан первый инфраструктурный оператор СООО «Белорус- ские облачные технологии» (торговая марка «beCloud»). Создана и успешно функционирует Республиканская платформа, действующей на основе облачных технологий. Предлагаемые облачные решения на базе собственного дата-центра позволяют организациям (предприятие работает в секторе B2B) за счет переноса бизнес-процессов в облака сократить капитальные и эксплуатационные расходы, в первую очередь расходы на информационные технологии, обеспечить непрерывность бизнеса, повысить уровень безопасности и защиты данных. Облачные сервисы помогают организовать работу в офисе, работать с клиентской базой, сдавать налоговую отчетность, вести учет торговых и производственных операций. Облачная платформа создана для хранения и резервирования данных клиентов, предоставления удобного сетевого доступа к программным продуктам, приложениям, сервисам, системам хранения. Сервисы облачной платформы beCloud размещены и функционируют в Республиканском центре обработки данных (РЦОД), а также на базе Единой сети передачи данных (ЕРСПД).
Основным потребителем услуг данного оператора является государственный сектор. На Республиканской платформе обеспечивается: размещение программно-технических средств, информационных ресурсов и информационных систем; доступность государственных информационных систем для пользователей; хранение информации и мониторинг работоспособности информационных систем; защита информации от неправомерного доступа, уничтожения, копирования, распространения и (или) предоставления информации с момента ее поступления на РП и до момента ее передачи в соответствующую информационную систему или информационный ресурс [59]. Сегодня уже осуществляется перенос IT-систем всех государственных органов на Республиканскую облачную платформу, функционируют система защищенной электронной почты Mailgov, система межведомственного документооборота, система электронного документообороту, общегосударственная автоматизированная информационная система [17].
Создание Республиканской облачной платформы, представляющей собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий хранение и резервирование данных клиентов, предоставление повсеместного и удобного сетевого доступа к программным продуктам, приложениям, сервисам, системам хранения, стало первым шагом к широкомасштабному распространению информационных технологий, интернета вещей в частности, в Республике Беларусь. Еще одним направлением созда- ния инфраструктуры интернета вещей стало создание мобильным оператором velcom первой в Беларуси и одной из первых в Европе узкополосной сети для интернета вещей «NB-IoT» (Narrow Band Internet of Things). В октябре 2017 г. было выдано разрешение на коммерческий запуск данной сети. Эта технология была разработана в 2016 г. для обмена данными между цифровыми устройствами. Ее преимуществами являются большая емкость сети, высокое проникновение сигнала (стандарт NB-IoT до 30 раз превосходит технологии M2M-связи по уровню проникновения сигнала), широкая область применения (от внедрения интеллектуальных городских систем до управления домашними устройствами), экономичность (небольшое энергопотребление и низкая стоимость датчиков и счетчиков) и энергоэффективность. Использование «NB-IoT» поможет ускорить переход на цифровые устройства, используемые как в потребительском, так и в промышленном секторе. Стандарт «NB-IoT» постепенно сменит существующую технологию 2G, используемую сегодня для M2M-решений.
С целью развития «NB-IoT» как целостной экосистемы планируется также создать единую платформу, в которую будут поступать данные от каждого смарт-устройства, а также специальное приложение, позволяющее дистанционно управлять приборами. На первом этапе сеть будут включать в г. Минске тестовыми зонами – там, где в этом есть потребность со стороны потенциальных партнеров.
Новая сеть «NB-IoT» открыта для разработчиков, создающих приложения для бизнеса или конечных потребителей. Специалисты velcom рассчитывают, что «технология NB-IoT выведет Беларусь в число мировых лидеров по развитию "интернета вещей"» [18]. А. Карниц-кий утверждает: «Технология NB-IoT позволит одновременно использовать сотни тысяч IoT-устройств с недорогими датчиками, что должно стать стимулом для реализации передовых высокотехнологичных проектов» [19].
Запуск сети «NB-IoT» с единой платформой сбора данных и специальными приложениями для их обработки и управления представляет собой важнейший этап в развитии интернета вещей в Беларуси – создания необходимой инфраструктуры. Однако как отмечает М. Тимонин, «…запустить – лишь полдела. Куда важнее наполнить ее готовыми решениями и устройствами: датчиками, счётчиками и другими цифровыми приборами» [20]. А. Карницкий отмечает, что «технически все готово – пришла пора наполнить сеть технологиями будущего» [19].
Международный опыт показывает, что государственный сектор является основным драйвером роста интернета вещей. По оценкам iKS-Consulting «государственный сектор генерирует более 80% всех доходов российского рынка IoT, бизнес – 18%, а пользователи – 1%. Государство стимулирует распространении технологий IoT через госпрограммы цифровизации и автоматизации управления городской инфраструктуры. 71% IoT-решений внедряется для развития концепции "умного" города. Это программы внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для улучшения общественной безопасности и охраны порядка в городах, программы развития интеллектуально-транспортной сети (ИТС) для управления городской транспортной сетью и транспортными потоками, а также программы улучшения энергоэффективности в коммунальной энергетике» [21]. Президент Национальной ассоциации участников рынка промышленного Интернета (НАПИ) Российской Федерации В. Недельский согласен, что в России основной спрос на IoT-решения будет за госсектором. «В первую очередь благодаря таким инфраструктурным заказчикам, как сегмент ЖКХ, компания "Россети", водоканалы, общественный транспорт и другие» [21], – говорит он. По его словам, за рубежом сложилась аналогичная ситуация, и «это видно на примере Китая, Южной Кореи, Японии, а также Германии и других стран Евросоюза» [21]. Аналогичная ситуация складывается и в Республике Беларусь.
Как и во многих других странах мира одной из первых сфер внедрения интернета вещей в экономику Беларуси стала жилищнокоммунальная сфера. В г. Минске подключены более 60 тыс. «умных» фонарей (что составляет около 60%) [22]. С помощью SIM-карт мобильного оператора velcom осуществляется дистанционное включение, выключение и передача данных о текущем состоянии фонарей. Мобильная связь также используется для управления уличным светом вдоль крупных магистралей, в том числе вдоль трассы до Национального аэропорта «Минск», подсветки зданий г. Минска. По сравнению со стационарными линиями связи или радиосетью использование мобильное сети отличается простотой и низкими затратами. Представитель УП «Мингор-свет» А. Ширяков отмечает: «Если для того, чтобы поддерживать собственную радиосеть, нам нужно обслуживать габаритное оборудование, которое занимает отдельное помещение, то для управления 500 подстанциями с помощью SIM-карт нам достаточно одного компактного модема. Новые технологии повышают эффективность управления системой, а также сокращают капитальные и эксплуатационные затраты» [22].
Сегодня в Беларуси имеется успешный опыт использования промышленного интернета вещей предприятиями. Например, ОАО «БелАЗ» оснащает свои изделия датчиками износа, что позволяет, с одной стороны, осуществлять своевременное техническое обслуживание сложных технических изделий, планировать закупку запчастей и ремонт, с другой – с учетом полученной информации об эксплуатации машин вносить необходимые изменения в конструкторские решения, тем самым повышая качество производимой продукции [23].
В целом же специалисты отмечают, что для распространения интернета вещей на белорусском рынке уже сегодня имеется достаточное количество устройств интернета вещей (датчиков, сенсоров), коммуникационных сетей и центров обработки данных, однако не хватает программных продуктов, направленных на решение задач бизнеса – готовых сервисов [24]. Есть источники больших данных, средства сбора и хранения больших данных, однако системы анализа этих данных разработаны недостаточно.
Как уже было отмечено ранее, с распространением промышленного интернета вещей повышается опасность кибератак, направленных на нарушение производственных процессов и незаконное получение коммерческой информации (промышленный шпионаж) [23]. С. Грингард отмечает: «По мере того, как подключенных к сети и между собой систем, устройств и данных становится все больше, растут и риски, связанные с конфиденциальностью. <…> Разработчики столкнулись с серьезной дилеммой. Создание функциональных интерфейсов и средств управления делают устройства удобнее, но также делают их мишенью для атак. Но при этом, если возможности управлять устройством у пользователя нет, он не сможет обнаружить неисправность до тех пор, пока проблема или взлом не проявятся сами, причинив немалый ущерб [9, c. 154]. В этом контексте данный автор указывает на возникающий «парадокс автоматизации»: «автоматизированные системы становятся все более сложными, и вероятность аварии или сбоя снижается, однако степень тяжести потенциальной опасности во много раз повышается» [9, c. 140]. По словам С. Грингард «Интернет вещей существенно повышает ставки. <…> Одно дело, если сломается один подключенный автомобиль. Совсем другое, если выйдет из строя целая транспортная система» [9, c. 143-144].
Список литературы Информационно-коммуникационные услуги как фактор обеспечения технологической безопасности производственного сектора: теоретические основы и опыт республики беларусь
- Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 [Электронный ресурс] // Комитет государственной безопасности Республики Беларусь. - Режим доступа: https://www.kgb.by/special/ru/ukaz575/.
- Солодовников, С. Ю. Современная структурная политика и кризис наноиндустрии / С. Ю. Солодовников // Право. Экономика. Психология. - 2017. - № 3 (8). - С. 42-48.
- Солодовников, С. Ю. Взаимосвязь структурной политики государства и модернизации реального сектора экономики / С. Ю. Солодовников // Экономическая наука сегодня. - 2018. - № 7. - С. 84-94.
- Солодовников, С. Ю. Эволюция институтов трудовой мотивации в условиях модернизации экономики / Солодовников С.Ю., Сергиевич Т.В. // Трудовая мотивацияи модернизация экономики: Россия и Беларусь: монография / Н. А. Симченко [и др.], Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. - Симферополь, 2016. - С. 72-91.
- Солодовников, С. Ю. Противоречие между структурной политикой государства и текущими целями предприятий в условиях модернизации реального сектора белорусской экономики / С. Ю. Солодовников // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы XVI международной научно-практической конференции преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов. - 2018. - С. 346-350.