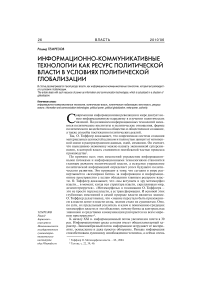Информационно-коммуникативные технологии как ресурс политической власти в условиях политической глобализации
Автор: Темрезов Рашид Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается такой ресурс власти, как информационно-коммуникативные технологии, который актуализируется в условиях глобализации.
Информационно-коммуникативные технологии, политическая власть, политическая глобализация, мета-власть, ресурсы власти
Короткий адрес: https://sciup.org/170165394
IDR: 170165394
Текст научной статьи Информационно-коммуникативные технологии как ресурс политической власти в условиях политической глобализации
С овременная информационная революция в мире диктует новую информационную парадигму в изучении политических явлений. Под влиянием информационных технологий меняются политические институты и политические отношения, формы политического воздействия на общество и общественное сознание, а также способы постижения политических реалий.
Так, О. Тоффлер доказывает, что современная система создания материальных ценностей целиком и полностью зависит от мгновенной связи и распространения данных, идей, символов. Он считает, что нынешнюю экономику можно назвать экономикой суперсимволов, в которой власть становится неизбежной частью процесса производства1.
По причине всех этих изменений управление информационными потоками и информационными технологиями становится главным рычагом политической власти, а искусное управление политической информацией определяет успех будущего политического развития. Это приводит к тому, что сегодня в мире развертывается «всемирная битва» за информацию и информационное пространство с целью обладания главным ресурсом власти. О. Тоффлер доказывает, что «мы вступаем в эру метаморфоз власти… в момент, когда вся структура власти, скреплявшая мир, дезинтегрируется». «Метаморфозы» в понимании О. Тоффлера – это не просто переход власти, а ее трансформация. И основой этих глубинных изменений в самой природе власти является знание. О. Тоффлер делает вывод, что «знание перестало быть приложением к власти денег и власти силы, знание стало их сущностью. Оно, по сути, их предельный усилитель и ключ к пониманию грядущих метаморфоз власти; и это объясняет, почему битва за контроль над знаниями и средствами коммуникации разгорается на всем мировом пространстве»2.
К началу XXI в. информационный поток увеличился почти в 30 раз. Информационная среда сегодня имеет общепланетарный характер. Лавинообразный поток информации затрудняет ее восприятие, осмысление и даже простое обозрение. Раньше информация способствовала духовному освобождению человека, а сейчас очень часто используется как способ установления господства над ним посредством контролируемых сведений через СМИ, манипулирования информацией и т.д.
В политической сфере, исходя из специфики и особенностей информации и ее феноменов (особенно политических), часто используется «асимметрия» как один из основных элементов информационной борьбы, что в конце концов позволяет формировать информационное пространство любого государства «под себя». «Сильное государство, – пишет Д.Ю. Швец, – это такое государство, в котором первичная роль интерпретатора должна принадлежать политической элите, властям, которые могут определить то или иное событие как угрозу для общества»1. Очевидно, и в формирующемся постиндустриальном (информационном) обществе существование власти также неотделимо от существования оппозиции как объективного явления современной политической жизни. Наряду с парламентской, внутриполитической оппозицией, можно выделить и народную оппозицию – противостояние широких слоев населения государственной власти с требованием коренных общественных перемен. В такой трактовке оппозиция является неизбежным следствием коммуникации.
Именно информационная революция явилась в некотором роде стартовой точкой современного процесса глобализации. Большинство исследователей проблем глобализации представляют ее как процесс расширения, углубления и ускорения мирового сотрудничества, затрагивающий все аспекты современной социальной жизни – от культурной до криминальной, от финансовой до духовной. Вместе с глобальным рынком и глобальным кругооборотом производства возникает и глобальный порядок – новая логика и структура управления, то есть новый вид суверенитета. Американский литературовед М. Хардт и итальянский политический философ А. Негри, анализируя новый мировой порядок глобализации, ввели понятие «империя», означающее универсальный порядок, не знающий границ и пределов2.
Слабеющий суверенитет национальных государств и их возрастающая неспособность к регулированию экономических, политических, культурных обменов являются фактически одними из важнейших признаков становления империи.
А.И. Юрьев в своей работе «Глобализация как новая форма политической власти, изменяющая человека и миропорядок» анализирует главные направления изменений миропорядка в глобализации. Он выделяет пять направлений: информационную глобализацию (виртуализацию); экономическую глобализацию (инновации); территориальную глобализацию (регионализацию); демографическую глобализацию (главный ресурс) и результирующее направление – политическую глобализацию (сетевую власть)3.
Применительно к нашей проблеме следует более подробно рассмотреть такой феномен, как политическая глобализация. Под ней мы понимаем процесс распространения политического господства, полномочий и форм правления, который оказывает влияние на суверенитет национального государства. Политическая глобализация преобразует современный мировой порядок, реконструируя традиционные формы национальной государственности и перестраивая международные политические отношения.
Глобальная политика меняет традиционные представления о различиях между внутренней и внешней, внутригосударственной и международной, территориальной и не территориальной политикой. Политические решения и действия в одной части мира быстро отражаются во всем остальном мире. Центры политического действия и/или принятия решений могут, благодаря современным средствам коммуникации, превращаться в сложные системы совместного принятия решений и политического взаимодействия4.
Глобализационные тенденции, связанные с виртуализацией и сетевизацией, влияют на постепенную трансформацию политической власти в направлении ее униформизации в различных регионах. Наблюдается рост бюрократических структур и появление новых манипулятивных технологий. Последние, в свою очередь, тесно связаны с быстрым развитием СМИ и других средств политической коммуникации. Например, известный французский социолог Ж. Эллюль еще в 1950-е гг. выводил развитие пропагандистских и рекламных технологий из самой природы современного государства. «Современное государство, – отмечал он в книге «Технологическое общество», – не более может обходиться без различного рода технических средств, чем бизнесмен без телефона и автомобиля. Бизнесмен пользуется этими предметами, поскольку он особенно испытывает любовь к прогрессу. Государство использует пропаганду или планирование, потому что оно является социалистическим. Обстоятельства таковы, что государство не может быть иным, чем оно есть на самом деле. Не только оно нуждается в технике, но и техника нуждается в нем. И это не является делом случая или результатом действия сознательной воли; скорее это необходимость, которая выражает себя в росте технического аппарата вокруг все более уменьшающегося в размерах и слабеющего “мозга”. Стоящая за государством движущая сила не развивается пропорционально развитию государственного аппарата. Этой движущей силой… является человек. Человек, находящийся в центре технической организации, больше не обладает способностью к функционированию иначе, чем в качестве простого гражданина, затерянного в технологическом окружении. Иными словами, политик отодвигается к статусу меньшинства самой громадностью технических средств, находящихся в распоряжении государства. Государство… – это организация, отличающаяся все возрастающей сложностью, заставляющая работать на себя всю сумму технологий современного мира»1.
Необходимо отметить, что информационно-коммуникативные технологии в основном явились изобретением ХХ в. Характерной их чертой является попытка влияния на массовое сознание, что отличает их от других вариантов межличностного воздействия. Политические тех- нологии постиндустриального общества направлены не на специфическую аудиторию (моноаудиторию), как в традиционном и отчасти индустриальном обществах, а на все поле социальных и индивидуальных потребностей. Технологии приобретают характер массового воздействия через СМИ и особенно электронные средства массовой информации, что приводит теоретиков и практиков к пониманию того, что именно они являются мощным средством детерминации социальных и политических изменений. Они способствуют разработке новых теоретических задач и принципов понимания общества как неустойчивой, открытой системы (Н. Луман, Ю. Хабермас)2.
На наш взгляд, в настоящее время можно говорить о том, что технологии и со-циоинженерные практики становятся основой управленческой деятельности в сфере политики. Политические технологии являются элементом социальной инженерии. Ее принципы опираются на понимание социальной и политической организации как комплексной системы. Подобный системный подход к анализу структуры, функций коммуникативных каналов в контексте их внешней и внутренней взаимосвязи позволяет осмыслить социальную инженерию как организационную в технологическом и механистическом смысле систему.
Становление постиндустриального общества инициировало поиски новых технологий управления в политике, в т.ч. новых технологий демократического волеизъявления. Именно в этот период возникают идеи усовершенствования технологий прямой демократии с помощью информационных технологий (проведение телефонных голосований, телевизионных или компьютерных референдумов и др.).
Интересным в нашем контексте представляется позиция У. Бека. Он доказывает, что на наших глазах происходит одна из важнейших перемен в истории властных отношений. По его мнению, в настоящее время происходит оформление мета-власти, главным ресурсом которой является не угроза вторжения, а угроза невторжения инвесторов или же угроза их ухода.