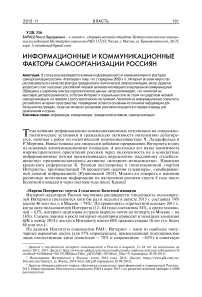Информационные и коммуникационные факторы самоорганизации россиян
Автор: Бараш Раиса Эдуардовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 11, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние информационного и коммуникативного факторов самоорганизации россиян. Апеллируя к тому, что с середины 2000-х гг. интернет во всем мире стал рассматриваться в качестве фактора гражданской и политической самоорганизации, автор задается вопросом о том, насколько российский низовой активизм зиждется и мотивируется виртуальной коммуникацией. Обращаясь к широкому спектру социологических данных, автор резюмирует, что, несмотря на массовую распространенность, в России интернет и социальные сети не стали ни средством низовой самоорганизации, ни привели к росту критических настроений. Несмотря на информационную открытость российского интернет-пространства, телевидение остается основным источником информации для большинства граждан, тогда как интернет-ресурсами россияне пользуются в первую очередь для развлечения и отдыха.
Информация, коммуникация, гражданский активизм, самоорганизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170167718
IDR: 170167718 | УДК: 316
Текст научной статьи Информационные и коммуникационные факторы самоорганизации россиян
Т ема влияния информационно-коммуникационных источников на социальнополитические установки и гражданскую активность интенсивно дебатируется, начиная с работ по политической коммуникативистике Ч. Лазарсфельда и Р. Мертона. Новые поводы для дискуссии добавило превращение Интернета в одну из основных коммуникационных площадок. А несколько лет назад зависимость мировоззренческих ориентаций россиян через включенность их в конкретные информационные потоки просматривалась определенно: пассивному «телебольшинству» противопоставлялось активное «интернет-меньшинство». Накануне крымского референдума Б. Немцов апеллировал к оппозиционной «партии Интернета», противостоящей 70-процентной «партии телевизора», «зомбированной ложной информацией» [Рушковский 2014]. Можно ли говорить о влиянии различных источников информации на настроения россиян спустя 4 года после Болотной площади и через полтора года после Крыма?
«Партия Интернета» спустя 4 года после Болотной площади
Интернет-аудитория России постоянно расширяется: численность пользователей Интернета (пользуются хотя бы раз в неделю) в августе 2015 г. составила 74% (около 46 млн чел.), в Москве – 79% 1 . По сравнению с «протестной осенью» 2011 г., когда доля пользователей Интернета (12–64 года) составляла 54%, а среди москвичей – 63%, интернет-аудитория в стране выросла почти на четверть (в Москве – на 16%). Схожие данные о росте интернет-аудитории приводит и немецкая компания GfK : к концу 2014 г. доступ к Интернету имели 68% граждан старше 16 лет (т.е. более 80 млн чел.) 2 .
По данным Института социологии РАН3, Интернет – один из наиболее популярных вариантов досуга (для 57% опрошенных), превосходящий популярностью лишь отечественное кино (советское – 78% и современное –62%) и советскую эстраду – 59%. С 2010 г. доля регулярных пользователей Интернета (не реже 1 раза в неделю) возросла вдвое – с 34% до 67%. Среди них почти половина (47%) пользуются Интернетом ежедневно. Схожие данные приводили ВЦИОМ (в марте 2015 г. 52% респондентов пользовались Интернетом ежедневно)1 и Левада-Центр (в июне 2014 г. зафиксировано 46% ежедневных пользователей Интернета)2.
Но свободный доступ к ресурсам Интернета не превращает его в выделенный информационный источник. Основным информационным источником для большинства граждан остается телевидение. Если Интернет предлагает разнообразные темы и интерпретации актуальных событий, то российское телевидение ретранслирует преимущественно безальтернативный консервативно-охранительный контент. Единичные скептичные интернет-материалы «тонут» в массированной охранительской повестке. Интернет проигрывает федеральным телеканалам и распространенностью/востребованностью, и авторитетностью . В мае 2015 г. большинство респондентов назвали телевидение основным ресурсом, освещающим ситуацию в стране (62%). За 2 года данный показатель немного вырос (на 2%), но востребованность Интернета как источника новостей о событиях в стране так и не приблизилась к телевизионным показателям: в 2015 г. к интернет-ресурсам респонденты обращались втрое реже, чем к телевидению (16% назвали Интернет главным источником информации о ситуации в стране, еще 6% обращались к социальным сетям 3 ). Также и по данным ВЦИОМа российское ТВ – наиболее востребованный информационный ресурс. Телевидению доверяли 55% граждан, Интернету – лишь 15%, 8% – социальным сетям. По данным Левада-Центра рост (на 15% с июня 2009 г. по март 2014 г.) массового доступа к новостным ресурсам Интернета (24%) и социальных сетей (15%) не смогли «сдвинуть» телевидение с позиций главного «ретранслятора» реальности. На протяжении 5 лет доля россиян, узнающих новости «из телевизора», остается неизменно высокой (90%) 4 .
Хотя многие граждане сочетают просмотр ТВ и информацию из других источников, их информационная «всеядность» не выливается в критичную новостную картинку. Стремление сформировать более-менее объективное представление о событиях в стране и мире – удел единиц. Когда-то Д. Белл называл широкий доступ к информации необходимым условием свободы [Белл 1986]. Сегодня далеко не все россияне спешат использовать возможности информационной свободы. Для большинства Интернет – в первую очередь средство поиска насущной информации (47%), общения (34%) и посещения социальных сетей (32%) 5 . Еще 26% обращаются к Интернету для развлечения, 23% – для просмотра кино. Новостные сюжеты в Интернете (не обязательно социально-политической направленности) интересовали лишь 26% россиян, 17% использовали Интернет, чтобы разобраться в ситуации в стране и мире. По сравнению с предпротестным октябрем 2011 г. доля респондентов, обращающихся к Интернету за аналитическими материалами, несколько выросла (на 6%, с 11% до 17%), но целенаправленный их поиск мало востребован.
Данные мартовского исследования ИС РАН 6 подтвердили, что доступ к ресур сам Интерн ета не выливается в критическое восприятие актуальной информации.
На первый взгляд, телевизионная аудитория чаще склонна давать положительные оценки событиям, объявленным знаковыми в рамках консервативной повестки дня: воссоединению Крыма с Россией (82% против 78% среди пользователей Интернета), ответным санкциям России на запрет поставок продуктов в Россию из США и стран Евросоюза (64% против 58%), самопровозглашению Донецкой и Луганской народных республик (54% против 51%) и участию российских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины (43% против 41%). А интернет-аудитория положительно оценивает события, отмеченные знаком «плюс» либеральной аудиторией: освобождению М. Ходорковского (20% против 15% среди ТВ-аудитории), отстранению от власти В. Януковича (24% против 22%). Но, как видно из эмпирических данных, «мировоззренческие различия» ТВ- и интернет-аудитории откровенно незначительны (разница в пределах социологической погрешности). Кроме того, не подтвердилась и резкая оппозиционность пользователей Интернета: более половины (57%) активных интернет-пользователей поддерживают деятельность президента В. Путина (среди представителей ТВ-аудитории этот показатель лишь на 5% выше – 62%).
Иными словами, доступ к интернет-коммуникации в современной России не превращает ее в выделенный способ получения информации, не мотивирует протестные настроения граждан и не повышает антивластный скепсис. Не подтвердилась гипотеза, высказанная одним из колумнистов издания Slon.ru в первый вечер «Белой зимы», 6 декабря 2011 г., что «противостояние [партии Интернета и партии телевизора] достигнет критической точки, когда Интернет захватит 50–60% электората» [Мирошниченко 2011]. Сегодня доступ к Интернету есть у 70% граждан, что не добавляет им «политической сознательности» или гражданской самоорганизации. По аналогии с «великим немым», Интернет можно назвать «великим развлекающим» – при обширных поисковых, аналитических и коммуникационных возможностях Интернет интересен большинству развлекательными возможностями. Вероятно, большее «политизирующее действие» на граждан оказывает использование социальных сетей как особого вида коммуникации?
Социальные сети: потенциал низового участияи перспективы Facebook-революции
Сегодня в России участие в социальных сетях распространено не столь широко, как доступ в Интернет. По данным исследования ИС РАН 1 , регулярно (ежедневно или несколько раз в неделю) социальные сети использует почти половина (47%) граждан, что в численном эквиваленте означает, что в социальные сети сегодня вовлечены не менее 60 млн россиян. Не пользуются социальными сетями 39% опрошенных, пользуются редко – 14%. Интересно, что использование Интернета не всегда выливается в активность в социальных сетях – там регулярно общаются чуть более двух третей (71%) активных пользователей Интернета. Еще треть активных интернет-пользователей в соцсетях зарегистрированы, но пользуются редко (13%) или не пользуются вовсе (15%). То есть, как минимум треть активных пользователей Интернета в принципе не интересуют его коммуникативные возможности, а тем более возможности самоорганизации.
Любопытно, что мартовский опрос ИС РАН зафиксировал «посткрымский» уход многих некогда социально активных пользователей не просто из соцсетей, но из той самой «партии Интернета» (именно из активистского сегмента интернет-пользователей) во «внутреннюю сетевую миграцию». Причины ухода – как внутренние, так и внешние. Если внутренние причины можно связать с переориентацией многих в ситуации экономического кризиса на решение реальных повседневных проблем, то внешние причины связаны с резкой радикализацией интернет-дискурса. После Крыма «партия Интернета» оказалось в ситуации дефицита собственной повестки, когда, с одной стороны, интернет-дискуссии выстраиваются вокруг критики действий власти, а с другой – оппозиционный сегмент оказался вынужденным перейти от интеллигентно-вдумчивых дискуссий к агрессивной оборонительной стратегии защиты от обвинений в том, что они являются «пятой колонной» и «нацпредателями».
Здесь прав с А. Морозов, который отмечает, что власть «вместо продолжения игры в “управляемую демократию”» резко присвоила себе повестку дня оппозиции. Присоединив Крым под лозунгами борьбы с фашистами, Кремль мгновенно переформатировал политическое пространство, в котором и из лояльных власти политических сил, и из бывших ее противников образовалась «гигантская каша… под общим названием “партия войны”». Все старые политические различия после Крыма «утратили всякий смысл, потому что и бывшие реформисты, и бывшие консерваторы, и даже нацболы, и даже националистическая организация Баркашова, и социалисты Кагарлицкого – да все подряд – оказались в одной многоголосой толпе, скандирующей: “Танки на Киев! Фашизм не пройдет!”» [Морозов А. 2015]. А вот условная «партия мира», представленная немногочисленными либералами, утратила черты либерализма.
Присоединение Крыма и война на Востоке Украины стали поводом задуматься о личной готовности многих к революционному переходному периоду в стране. В условиях жесткого прессинга оппозиции многие бывшие сторонники оппозиции ушли в «безысходное терпение», затаились до лучших времен, видя тщетность любых революционных инициатив в ситуации горячей поддержки власти большинством россиян.
Так что многие социально благополучные и активные граждане отказались от активного участия в виртуальной коммуникации. Большинство дискуссий в социальных сетях превратились в бесплодную критику властей. «Внутреннюю миграцию» многих представителей «партии Интернета» подтвердил и апрельский опрос «Ромира» 1 : рост российской интернет-аудитории в 2015 г. сопровождался отказом 5% некогда активных пользователей социальных сетей от виртуальной коммуникации. Свой «уход» бывшие пользователи объяснили потерей интереса к виртуальной коммуникации, желанием перестать тратить время впустую, а также тем, что соцсети не обеспечивают приватность.
Означает ли это, что, несмотря на отсутствие видимых признаков протестной консолидации и размывание рядов недовольных из «партии Интернета», ухудшение социального благополучия либо появление конструктивной повестки у оппозиции способно породить в перспективе вторую волну «Болотной»? Ответ на этот вопрос важен, поскольку спустя 3 года после событий 6 мая ряд экспертов-очевидцев (к примеру, Олег Кашин) причину неудачи протеста видят в глубинном нежелании бороться за перемены. О той же недостаточной мотивации многих недовольных говорил и Глеб Павловский: «…зараженные социальными сетями люди не решились на большую ставку – на спор о власти. И поэтому оказались фактически проигравшими еще до столкновения, до конфликта» 2 .
Результаты социологических опросов также дают скорее отрицательный ответ на вопрос о возможности конструктивной массовой консолидации. Возможны единичные выступления протеста, массовые антивластные митинги – скорее нет. Сегодня активистский потенциал россиян на предельно низком уровне, большинство (77%) не участвуют в деятельности общественных организаций или объединений. Вовлеченность в социальные сети не мотивирует гражданскую или политическую самоорганизацию. Разница между уровнем включенности в объединения низовой самоорганизации активных участников социальных сетей и граждан, в соцсети не вовлеченных, составляет буквально 1–2%. Низовая самоорганизация и среди активных пользователей социальных сетей, и среди редких посетителей катастрофически низка. Единственное исключение – интернет-сообщества, в которых в последние год-два участвовали 13% активных посетителей соцсетей. В деятельности профсоюзов участвовали 6% активных пользователей социальных сетей, среди редких посетителей или тех, кто соцсетями не пользуется, – почти столько же (4%). В волонтерском движении участвовали 6% активистов соцсетей против 2% не участвующих и 3% участвующих редко, в деятельности благотворительных организаций – 5% против 3% и 2%.
Условная «партия Интернета», если ее ростки и зародились в «протестную эпоху», постепенно растворилась в «медианном пользователе» Интернета, который обращается к Интернету и соцсетям для общения и обмена мнениями (72%), новостями (54%) или для развлечения (45%). Единицы используют Интернет для достижения социально значимых целей: только 5% привлекает в соцсетях потенциал участия в общественных акциях, 2% – участие в политических инициативах. Выстраивание коммуникаций по интересам, поиск единомышленников или собеседников представляет интерес для 9–12% 1 .
Ситуацию первостепенной востребованности именно развлекательной составляющей Интернета и сетевых ресурсов очень точно описал Дмитрий Муратов, разочарованно признавший напрасной веру в то, что с приближением числа электронных гаджетов к числу ТВ-мониторов «появится некоторая альтернатива, и партия Интернета победит партию телевизора». С «протестного» 2011 г. численность пользователей Интернета действительно выросла, однако революция – прежде всего в сознании – не произошла. Как справедливо отмечает Д. Муратов, «когда у человека есть гаджет с доступом в сеть, это означает, что свободы слова может и не быть, но есть свобода получения информации», но, несмотря на существование в России свободных инфоресурсов (вроде Newsru.com , «Медузы», Openrussia , «Новой газеты»), российский «трафик занят в основном просмотром порнороликов» [Муратов 2015].
Кроме того, общение в соцсетях если и ведет к конкретным действиям, то разворачивается, как правило, в пределах идейно ограниченной группы. Носители конкретных идеологических взглядов склонны отдавать предпочтение информации, публикуемой идейно близкими пользователями и ресурсами, так что «до пользователя с четкими политическими взглядами доходит не больше 40% “оппозиционных” ссылок» [Биргер 2015]. И это – в условиях идейной поляризации интернет-сообществ. Российская же блогосфера скорее идейно и политически аморфна. Большинство (68%) активных пользователей социальных сетей не имеют политических взглядов. А среди тех, кто определился с политическими предпочтениями, нет ни единой актуальной повестки дня, ни надежды на диалог. И в целом «партия Интернета» не являет собою форпост протестных настроений: выбирая между властью или оппозицией, большинство выбирает власть (53–54%). Оппозицию готовы поддержать лишь 8% активных пользователей Интернета и социальных сетей.
Важнее другое. Как справедливо заметил К. Рогов, с подачи власти в понимании протестов возобладала идея, что протесты – это всплеск веселой фанаберии столичного «креативного класса». Будучи «частью правды, …концепция эта… была весьма для протестующих лестной». Протестующее меньшинство стало восприниматься как противостоящее «большой нации», что было использовано Кремлем для противопоставления недовольных прочим гражданам. Ситуация же посткрымской стигматизации и маргинализации оппозиции в немалой степени есть прямое следствие того, что «в 2011 г. протестующим не удалось добиться убедительной и широкой консолидации на основе повестки модернизации»2. События в Крыму и на Востоке Украины, как писал Ф. Крашенинников, стерли «границы между лоялистами, воспитанными телевизором, и оппозицией, выращенной в Интернете»3 – левонационалистический фланг оппозиции нашел в посткрымском консерва- тивном консенсусе созвучные своей повестке мотивы народного восстания, многие бывшие критики власти поддержали борьбу власти «за интересы русских и русскоязычных».
Дефицит активистского заряда пользователей соцсетей важен для понимания причин провала «российской Facebook -революции». Джон Кин справедливо критикует идею о том, что неограниченный доступ к информации есть залог демократизации [Кин 2015: 28-29, 35]. Для полноценной демократизации необходимы не только демократизация доступа к информации, но политизация публичного и приватного (когда любые факты личной жизни представителей власти потенциально связаны с областью политического). Еще один аспект информационной демократизации – новое «макрекерство», активная деятельность граждан, журналистов и контролирующих институтов, связанная с предъявлением органам власти «разоблачений» и фактов, требующих «публичной огласки» [Кин 2015: 56]. В России наличествует лишь два первых условия – условно свободный доступ к информационным источникам и тенденция политизации социальной проблематики. А вот предпосылки широкой интернет-самоорганизации, направленной на контроль за сферой политического, пока отсутствуют.
Кроме того, далеко не все пользователи Интернета считают виртуальное пространство жизненно важной средой обитания. В марте 2015 г., после закрытия Lenta.ru , попыток лишить лицензии интернет-канал «Дождь» и блокировка ряда оппозиционных ресурсов (Грани.ру, Каспаров.ру, Еж.ру), 34% активных пользователей соцсетей были готовы к ограничению свободного доступа в Интернет. И уж совсем «покладистыми» интернет-пользователи становились, когда речь заходила о возможности ужесточения государственного контроля за деятельностью СМИ и Интернета с целью обеспечения государственного суверенитета (76% активных пользователей соцсетей в той или иной степени поддержали идею ужесточения государственного контроля за медийным и интернет-контентом в стратегических целях).
Настоящих борцов за свободу информации и слова среди активных пользователей соцсетей оказалось всего 24%.
«Приручение» Интернета властью
Это хорошо понимает и власть, решительно включившаяся в «работу с Интернетом». Если в начале протестного 2012 г. прокремлевские политологи только ставили задачу учиться работать в Интернете, «действовать по-умному, выстраивая коммуникации» [Ильницкий 2012], то спустя 3 года власть стала полноценным «игроком» в сети. И не только, как предполагают многие деятели оппозиции, через «систему Ольгино», т.е. нанятых провластных авторов и комментаторов. Подписание в 2015 г. указа «О некоторых вопросах информационной безопасности РФ» продемонстрировало намерения власти максимально освоить интернет-пространство. Сегодня можно выделить три главных направления такой работы.
Первое направление – внеидеологическое , построение системы электронной коммуникации граждан с властью по социально значимым вопросам посредством «электронной демократии». Второе направление – дискуссионное , конкуренция за умы через продуцирование контента консервативного толка (интернет-версии газет «Известия», «Комсомольская правда», Накануне.ру, Регнум, Взгляд.ру или Лента.ру в новом формате). В ситуации дефицита информации о происходящем на Майдане, в Крыму и на Донбассе власти «поняли, что надо брать Интернет под контроль с той же решимостью, что и телевидение, и офлайновые СМИ» 1 . К этому еще в 2011 г. призывал В. Путин: «…если власти или кому-то не нравится то, что происходит в Интернете, есть только один способ противостоять: на той же интернетной площадке предлагать другие подходы и решения и делать это более креа тивно, инте ресно, собирать большее количество сторонников» 2 .
Третье направление – цензурирование . Ассоциация пользователей Интернета в 2014 г. зафиксировала 1 448 факта административного давления на Интернет, 947 случаев ограничения доступа к сайтам, 87 предложений политиков и чиновников о регулировании Интернета. 2014 г. ознаменовался первыми серьезными попытками властей гасить массовые явления в Интернете: к примеру, было запрещено любое упоминание марша «За федерализацию Сибири», к администрации социальных сетей выдвигались требования удалить или заблокировать группы, в которых обсуждалась акция протеста против приговора братьям Навальным 1 .
Российский опыт освоения властью сети с целью «переиграть» оппозицию похож на китайский и ближневосточный. И в этой игре, как пишет Сева Гунитский, социальные медиа, рассматривавшиеся как механизм стимулирования демократии, оказались беззащитными перед ограничением со стороны гибридных и авторитарных режимов [Gunitsky 2015a]. С. Гунитский справедливо выделяет четыре основных стратегии ограничения интернет-коммуникации: 1) контрмобилизация, 2) формирование дискурса, 3) предпочтительное разглашение, 4) координация элит [Gunitsky 2015b].
Еще одну стратегию называет Е. Миронов, полагая перенасыщение Рунета развлекательным контентом одним из стратегических механизмов противодействия политизации, в т.ч. и протестной: «когда-то западные благодетели ошиблись, полагая, что советские служащие втайне печатают на своих компьютерах самиздат, а не играют в “Тетрис”», а сегодня Запад «напрасно питает надежды на то, что россияне обсуждают в блогах права человека и сталинские злодеяния, вместо того чтобы раскручивать чат-рулетку» [Морозов Е. 2014: 52-54].
О том, что российская власть взялась за Интернет всерьез, свидетельствует нарочитое внимание системных аналитиков к наращиванию в виртуальном пространстве консервативной повестки. Весной 2015 г. директор ВЦИОМа В. Федоров объявил, что «Кремль и в Интернете оппозицию “переинтернетил”» 2 , а Фонд развития гражданского общества констатировал провластное сетевое доминирование благодаря «посткрымскому консервативному повороту», приходу в сеть консервативно настроенной «партии телевизора» и рост популярности лояльных власти ньюс-мейкеров (e.g. «первого по ретвитам» В. Соловьева и «первых по лайкам» З. Прилепина и Т. Толстой) [Путинское большинство: Этапы… 2015, Путинское большинство делает… 2015]. Нет сомнений, что консервативная инфоповестка будет нарастать, а «внутреннее информационное поле [станет] все сильнее диссонировать с внешним, становясь все более пропутинским» [Становая 2015]. И несмотря на усталость граждан от пропаганды, влияние официальных СМИ еще довольно долго может поддерживаться на высоком уровне [Доклад Комитета… 2015]. Но в случае деэскалации украинского конфликта интерес к международным проблемам начнет ослабевать, и переключение внимания населения на экономический кризис будет служить нарастанию диссонанса общественных настроений с риторикой официальных СМИ, что приведет к недовольству внутренней политикой.
Резюмируя, можно отметить, что в противостоянии «партии Интернета» и «партии телевизора» в 2011–2014 гг. победу внезапно одержала «партия холодильника», которая сознательно пошла на обмен части своей свободы и политического выбора на относительные социальные гарантии. И, как отмечал незадолго до своего убийства Б. Немцов, именно «аполитичные и вменяемые» представители «партии/фракции холодильника» достаточно быстро осознают, что истинной причиной их проблем является политика власти, что и заставит их пополнять ряды оппозиции и партии Интернета 3 . Серьезные предпосылки для бунта
«партии холодильника» уже сложились: еще в конце 2014 г. о неготовности поддерживать меры по возрождению мощи России ценою снижения уровня своей жизни заявляли молодые (до 30 лет) жители сел (60%) и поселков городского типа (60-61%), оценивающие свое материальное состояние как плохое (67%). То есть, угроза бунта исходит вовсе не от «креативного класса», а от поставленной на грань выживания провинциальной рабочей молодежи, и в ситуации общего падения уровня жизни рост протестных настроений условной «партии холодильника» представляется достаточно вероятным.
Вариант радикального антилиберального слома кажется тем более вероятным, что Россия пока не знала в своей истории ни одного примера, когда бы социальный взрыв обходился без коренной ломки не только властной, но и всей социальной системы, что оборачивалось для общества новым витком ограничения свобод и прав.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант 14-03-00707а «Гражданский активизм и самоорганизующиеся практики: новые реалии».