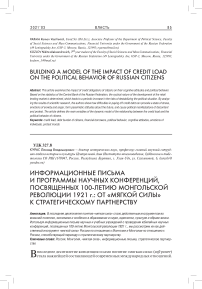Информационные письма и программы научных конференций, посвященных 100-летию монгольской революции 1921 г.: от "мягкой силы" к стратегическому партнерству
Автор: Курас Леонид Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
В последнее десятилетие понятие «мягкая сила» стало действенным инструментом во внешней политике, экономике и особенно в образовании и науке, идеологии, культуре и образе жизни. Используя информационные письма научных и учебных учреждений о проведении юбилейных научных конференций, посвященных 100-летию Монгольской революции 1921 г., мы рассмотрим их как действенный инструмент «мягкой силы» России по отношению к Монголии и Монголии по отношению к России, способствующий переходу к стратегическому партнерству.
Россия, Монголия, «мягкая сила», информационные письма, стратегическое партнерство
Короткий адрес: https://sciup.org/170178940
IDR: 170178940 | УДК: 327.8 | DOI: 10.31171/vlast.v29i3.8144
Текст научной статьи Информационные письма и программы научных конференций, посвященных 100-летию монгольской революции 1921 г.: от "мягкой силы" к стратегическому партнерству
В последнее десятилетие концепция и само понятие «мягкая сила» ( soft power ) стала важнейшей составляющей современных международных отношений.
Автор концепции Джозеф Най-мл. определил «мягкую силу» как «способность получать желаемое при помощи привлекательности, а не силы или денег» [Nye 1990]. Как источники «мягкой силы» им были выделены культура, политические ценности, внешняя политика [Най 2014: 56, 152-153]. Конечно, у России есть собственная история реализации политики «мягкой силы», которая восходит к временам, когда СССР осуществлял всестороннее сотрудничество по линии СЭВ, и особенно с Монгольской Народной Республикой1.
Помимо таких традиционных инструментов внешней политики, как официальная дипломатия, военный и экономический потенциал государства, все активнее используются иные способы достижения целей, именуемые «мягкой силой» / «мягким влиянием». Среди прочих проявлений «мягкой силы» наиболее часто выделяют возможности гражданского общества, массовой культуры, образования и науки в разных ее проявлениях, информационно-коммуникационные методы и технологии, пропаганду языка, атрибутов высокой и массовой культуры, образа жизни. При этом в современном мире все более возрастает значение образования [Актамов 2020]. В своих публикациях мы уже выделяли такие проявления «мягкой силы» через призму научной деятельности, как подготовка диссертационных сочинений [Курас 2020а] и грантовая деятельность РГНФ/РФФИ-МинОКН (Монголия) [Курас 2020б]. Следует подчеркнуть, что, говоря о «мягкой силе», мы имеем в виду формы и методы воздействия одной страны на другую страну.
Сегодня Монголия активно формирует свой положительный образ в мире, что находит соответствующий отклик в приграничных регионах России (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва), связанных с ней общностью истории и культуры, и уже поэтому Монголия использует концепцию «мягкой силы», оказывая воздействие на Россию. По справедливому мнению А.В. Михалева, это воздействие осуществляется в трех проявлениях: во-первых, «происходит экспорт идей кочевой цивилизации из Монголии как некоего особого уклада, характерного для всех монгольских и тюркских народов» [Михалев 2014: 95]; во-вторых, через монгольские вузы происходит распространение идей демократии в ее либеральном варианте: «конференции, школы и семинары, формирующие представление о монгольской демократии как особом пути, являющемся продуктом кочевой ментальности, ежегодно проводятся в Улан-Баторе. В то же время отмечается устойчивая мода на получение высшего образования в Улан-Баторе среди части выпускников школ Бурятии и Тувы» [Михалев 2014: 97]; в-третьих, наблюдается «рост авторитета тибетских учителей буддизма в Бурятии, Монголии и Туве, став едва ли не главным идеологическим трендом начала XXI в.». Кроме того, существует еще «религиозная иерархия территорий», в которой Монголия занимает позицию «защитника веры», что «активно эксплуатируется в региональных СМИ и формирует специфику восприятия Монголии в регионе» [Михалев 2014: 99, 100].
Нынешний 2021 г., который является, пожалуй, наиболее насыщенным для Монголии на юбилейные даты, может сломать сложившиеся стереотипы и показать «мягкую силу» как образец взаимовлияния современной России и современной Монголии. В их числе: 110 лет Монгольской национальноосвободительной революции 1911 г.; 100 лет Монгольской народно-революционной партии; 100 лет Монгольской национальной революции 1921 г.; 100 лет установления дипломатических отношений между Советской Россией и Монгольской Народной Республикой; 100 лет Монгольскому ученому коми- тету, вследствие чего была создана Монгольская комиссия АН СССР [Митин 2002]; 60 лет Академии наук Монголии; 60 лет вступлению Монголии в ООН; 40-летие первого полета в космос монгольского космонавта и совместного советско-монгольского космического полета.
Особый интерес для нас представляет историческая дата, связанная со столетием Монгольской революции 1921 г. и установлением дипломатических отношений, ибо остальные юбилеи являются следствием победившей Монгольской революции 1921 г. Не случайно этому событию посвящены многочисленные научные форумы, среди которых «Российско-монгольские отношения: от истоков до современности» (ИСАА МГУ, г. Москва); «100 лет дипломатических отношений между Россией и Монголией: от дружественных отношений к всеобъемлющему стратегическому партнерству» (ИВ РАН, г. Москва); «Россия – Монголия: 100 лет вместе» (ИГУ, г. Иркутск); «Монголия ХХ века и российско-монгольские отношения: история и экономика» (БГУ, г. Иркутск). Тем самым, в самих информационных письмах и программах научных конференций заложены ключевые характеристики современных международных отношений, и в этих характеристиках как раз и проявляется взаимозависимость государств и неправительственных организаций – участников международных отношений. Из этого следует, что каждое действие одной стороны неизбежно в той или иной степени отражается на состоянии и поведении другой стороны, находящейся во взаимозависимых отношениях с первой. В данном случае именно благодаря научной составляющей происходит гуманизация международных отношений.
Это тем более важно, что «мягкая сила» Джозефа Ная-мл., несмотря на ее привлекательность, не исключает военное вмешательство, что делает ее по-настоящему уязвимой [Батжаргал, Туяа 2015]. Поэтому не случайно на смену концепции «мягкой силы» постепенно приходит новая концепция Дж. Ная-мл. – концепция «умной силы» как сочетания «мягкой силы» с «жесткой силой», где автор уже откровенно говорит: «Здесь потребуется понимание того, как отправлять власть вместе с другими государствами и над другими государствами» [Най 2012: 187]. Следует помнить, что Дж. Най – американский политолог, разработавший ряд направлений в рамках неолиберализма, в т.ч. теорию комплексной взаимозависимости. Он является ведущим экспертом по международным вопросам, окончил Гарвардский университет; с 1995 г. – профессор Школы государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете; член Американской академии искусств и наук, Академии дипломатии, исполнительного комитета Трехсторонней комиссии. Дж. Най возглавлял Международный институт стратегических исследований. Он занимал высокие правительственные посты: в 1977–1979 гг. – помощник заместителя госсекретаря по вопросам поддержки безопасности, науки и технологии, председатель группы Национального совета безопасности по вопросам нераспространения ядерного оружия; в 1993–1994 гг. – председатель Национального разведывательного совета; в 1994–1995 гг. – заместитель министра обороны по вопросам международной безопасности. В ходе президентской кампании Дж. Керри ученый претендовал на место советника по национальной безопасности [Миронов 2013: 66; Батжаргал, Туяа 2015: 111]. Поэтому ни у кого не вызывает сомнения, что гарвардский профессор востребован политической элитой США. И естественно, что у него понятие «мягкая сила» будет всегда ассоциироваться с политической идеологией США, оказывающей влияние на политику и сознание народов стран, вступивших в международные отношения.
Именно поэтому, отдавая дань новому подходу к идеологии «мягкой силы», мы хотим предложить идеологию стратегического партнерства, пока что на уровне отношений Россия – Монголия, где вообще отсутствует понятие «сила». Этому способствует транснациональная история монгольского мира, суть которой мы раскрыли на примере социальных революций первой четверти ХХ в. [Курас 2016б]. Так, в современной российско-монгольской историографии появилось принципиально новое направление, ставшее базовым в современном монголоведении и определившее основные этапы создания и развития монгольской государственности в первой четверти ХХ в.: Синьхайская революция 1911 г., русско-монгольское соглашение 1912 г., русско-китайская декларация 1913 г., тройственное Кяхтинское соглашение 1915 г., монгольская революция 1921 г., бурятская национальная автономия. Все это нашло широкое отражение в монгольской, российской, китайской и американской историографии [Курас 2016а: 84]. В свою очередь, это позволяет современной историографии взглянуть на события в Центральной Азии «не через призму национальных историй России, Монголии, Китая, Японии, ‹…› а с точки зрения глобальной или транснациональной истории» [Саблин 2014: 135-136]. В центре внимания такого направления – «изучение закономерностей, общих для всех национальных культур, а также взаимосвязей, конфликтов, войн, революций, которые невозможно объяснить как результат действий отдельного государства. Поэтому именно транснациональная история позволяет по-новому рассмотреть феномен революции» [Курас 2016б]. Именно такая «перспектива позволяет не только осветить трансграничные аспекты развития национальных движений в Сибири и Монголии, приведших среди прочего к созданию и частичной реализации национальных проектов, но и реконструировать историю национализма как глобального дискурса, оказавшего в ХХ веке значительное влияние на властные отношения и постимперское переустройство во всех регионах мира» [Саблин 2014].
Не случайно Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ) и Институт истории и этнологии Монгольской академии наук (г. Улан-Батор) приняли решение о проведении в июне 2021 г. в пограничном городе Кяхта совместной научной конференции, посвященной событиям 100-летней давности, что станет реальным воплощением нового уровня реализации идеи «мягкой силы» как идеи партнерства. Наряду с имеющимися наработками и документами архивохранилищ, материалы конференции также станут основой совместной монографии российских и монгольских ученых, подготовленной к 100-летию Монгольской революции 1921 г. в рамках совместного проекта РФФИ – Министерства образования, культуры и науки и спорта (Монголия) «Монгольская революция 1921 г. в зеркале транснациональной истории монгольского мира» (к 100-летию Монгольской революции 1921 г.) как реальное воплощение идеи партнерства.
С начала 1990-х гг. Монголия и Россия прошли путь от восстановления отношений до установления отношений стратегического партнерства. На этом пути профессор М.И. Гольман выделил три этапа во взаимоотношениях России и Монголии: первый этап – 1990–1993 гг., характеризуемый как период упадка; второй этап – 1993–1999 гг. – расценивается как период их восстановления и стабилизации; третий этап – с 2000 г. по настоящее время – перерастание добрососедских связей в отношения стратегического партнерства [Гольман 2014]. За это время создана солидная нормативно-правовая база для развития отношений в самых различных направлениях, сложилась практика регулярных встреч на высоком уровне, развиваются торгово-экономические связи, изо дня в день крепнет научное сотрудничество. И свидетельство тому – научные программы предстоящих научных конференций, посвященных 100-летию
Монгольской революции 1921 г. и подписанию соглашения о сотрудничестве между нашими странами [Эрдэнэбаяр Ганхуяг 2017].
Статья подготовлена при поддержке РФФИ – МинОНКС (Монголия) «Мягкая сила» в российско-монгольских отношениях: сравнительный анализ. Проект № 19-514-44001
Список литературы Информационные письма и программы научных конференций, посвященных 100-летию монгольской революции 1921 г.: от "мягкой силы" к стратегическому партнерству
- Актамов И.Г. 2020. Образование как инструмент «мягкой силы» в российско-монгольских отношениях в конце XX - начале XXI веков. - Научный диалог. № 4. С. 221-237.
- Батжаргал Н., Туяа Г. 2015. Позитивная и негативная грани «мягкой силы». — Вестник Бурятского государственного университета. Вып. 14А. С. 110-118.
- Гольман М.И. 2014. Россия и Монголия: от спада до стратегического партнерства. Доступ: https://centrasia.org/newsA.php?st=1413874920 (проверено 14.05.2021).
- Курас Л.В. 2016а. Бурятская национальная автономия 1917 года в транснациональной истории. — Иркутский историко-экономический ежегодник: 2016. Иркутск: Изд-во БГУ. С. 84-92.
- Курас Л.В. 2016б. Транснациональная история монгольского мира в условиях революционного подъема: первая четверть ХХ в.: монография (рук. проекта Л.В. Курас; отв. ред. Б.В. Базаров; науч. ред. М.Н. Балдано). Иркутск: Оттиск. 252 с.
- Курас Л. 2020а. Диссертационные сочинения о Монголии как проявление «мягкой силы» в российско-монгольских отношениях. — Власть. Т. 28. № 2. С. 127-131.
- Курас Л.В. 2020б. Грантовая деятельность РГНФ/РФФИ — МинОКН (Монголия) как инструмент «мягкой силы» (на материалах ИМБТ СО РАН). — Иркутский историко-экономический ежегодник: 2020. Иркутск: Изд-во БГУ. C.393-400.
- Миронов В.В. 2013. Джозеф Най-младший и релятивистское понимание силы в международных отношениях. — Вестник Сургутского государственного педагогического университета. № 3(24). С. 64-72.
- Митин В.В. 2002. Из истории деятельности Монгольской Комиссии АН СССР в 1920-е годы. — Метаморфозы истории. № 2. С. 106-128.
- Михалев А.В. 2014. «Мягкая сила» современной Монголии и приграничные регионы России. — Россия и мир в XXIвеке. № 1(82). С. 93-101.
- Най Дж.-мл. 2012. Умная сила: эссе. — Политическая наука. № 4. С. 179-194. Най Дж.-мл. 2014. Будущее власти. М.: АСТ. 448 с.
- Саблин И.В. 2014. «Вильсоновский момент» на Восточном фронте: война, национализм и буддизм в Сибири и Монголии. — Первая мировая война в «восточном измерении»: сборник статей. М.: ИВ РАН. С. 135-155.
- Эрдэнэбаяр Ганхуяг. 2017. Россия — Монголия: по пути стратегического партнерства. — Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. История России. Т. 16. № 6. С. 462-476.
- Nye J.S., Jr. 1990. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y.: Basic Books. 336 p.