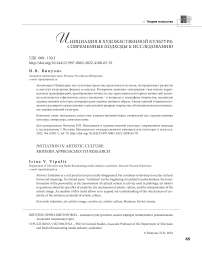Инициация в художественной культуре: современные подходы к исследованию
Автор: Випулис Ирина Викторовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория искусства
Статья в выпуске: 4 (108), 2022 года.
Бесплатный доступ
Инициация как культовая практика практически исчезла, но продолжает развитие в светских культурных формах и смыслах. В широком значении «инициация» (как начало кардинальных трансформаций, преображения личности, как трансляция культурных ценностей) активно используется в филологии, искусствознании в вопросах о специфике творчества, механизме художественной культуры, интерпретации художественного образа. Анализ данной тенденции позволяет расширить представление о ритуальной природе творчества, об инициатическом потенциале художественной культуры.
Инициация, искусство, художественный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/144162484
IDR: 144162484 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-4108-65-70
Текст научной статьи Инициация в художественной культуре: современные подходы к исследованию
Культовой практике инициации, начиная с архаической эпохи, отводили ведущую роль в инкультурации индивидов. Именно в процессе возрастных или специализированных посвящений неофитам передавались культурные доминанты общества, эпохи, формировались базовые культурные компетенции новых членов, закладывалась ценностная картина бытия. Ритуальные инициационные действия имели богатое художественное воплощение.
Несмотря на исчезновение широко организованной практики посвящения в современном обществе, ее развитие продолжается в различных светских культурных формах и смыслах. М. Элиаде отмечал, что инициация растворилась в «народных обычаях, играх и литературных мотивах» [9]. Художественная среда остается плодотворной почвой для воспроизведения ее отдельных элементов. Исследователи фиксируют «книжные, литературные посвящения», инициационные арт-проекты, посвящения массовой культурой посредством компьютерных игр и т. п. Так, философ П. Л. Зайцев рассматривает процесс чтения современной литературы «как болезненную, но необходимую инициацию, связывающую человека не только с культурой, но и с самим собой» [3, с. 80]. Он пишет: «…когда опыт и пристрастия создателя текста уже не являются ключом к его произведению, инициация человека в качестве читателя,– пожалуй, единственная возможность для философской веры в жизнь текста и жизнь культуры» [3, с. 82].
Широкий оборот приобретает термин «инициация» в научной литературной среде. Инициация и литература имеют прочную генетическую связь. В начале культурогенеза инициация как ритуал и литература как миф составляли единое целое. Несмотря на их постепенное историческое обособление и автономизацию, архаическая культурная диффузия сохранила в каждом родственные черты, а именно – их общую интенцию на духовное становление индивида, преображение личности. В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский и др. теоретически заложили модель структурного анализа литературного произведения на основе логики построения и действия инициационной системы. Рассмотрим примеры использования понятия «инициация» в современных исследованиях проблем художественной культуры и проанализируем его содержание в научном дискурсе.
Среди различных подходов наиболее упрощенный вариант употребления термина «инициация» связан с его этимологией (от лат. initio «начинать») – «начало», «первоисток». При данном подходе в исследовании понятие «инициация» играет скорее техническую дополнительную роль и акцентирует внимание на установлении первопричины, провокатора кардинальных трансформаций в литературном сюжете, в линии героя, или определяет факторы стимулирования научных исследо-ваний1.
Классическое определение инициации как ритуала посвящения (от лат. initiatio «посвящение; совершение таинства») часто используется при анализе мифологических, фольклорных текстов. Интересным является подход, связанный с исследованием одного характерного атрибута инициации, представленного в произведении. Например, в статье С. В. Прищенко и И. В. Цыгановой «Сосуд в мифопоэтической традиции: атрибут бога и актор инициации героя» инициация рассматривается как ритуальный фон, особое пограничное состояние между профанным
1 Сиражитдинова Н. М. Инициация научных исследований в процессе работы над созданием энциклопедии «Мустай Карим» // Региональные энциклопедии в современной научной инфокоммуникационной системе России: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Уфа, 2016. С. 244–246.
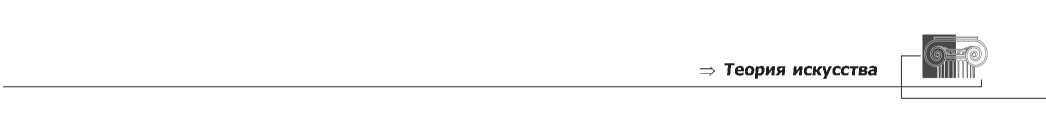
и сакральным мирами, в котором утилитарный бытовой предмет (сосуд: корзина, котел, чаша) приобретает сакральный смысл и способность влиять на качества личности героя и его поступки: сосуд как место рождения, спасения, заточения героя или его инсигнии [7, с. 111]. В данном варианте авторы указывают на сакрализирующую способность инициации, ее мифопоэтическую природу.
В ряде работ, использующих подобный подход, внимание акцентируется на таком компоненте инициации, как страх. В ритуале посвящения преодоление страха перед не-известностью/смертью/болью – важнейший этап испытания и становления героя. Знаменательным в этом смысле является исследование С. С. Аверинцева «Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама». Автор соглашается с определенным позитивным значением страха как экзистенциала в творчестве поэта [1, с. 147] и отмечает особое значение темы грозной смерти в инициации поэта для русской поэтической традиции [1, с. 148]. Ученый обозначает начало традиции поэтической инициации в одах Г. Р. Державина и отводит «центральное место на передней линии» произведению А. С. Пушкина «Пророк». С. С. Аверинцев делает важный вывод: «…настоящая тема поэзии – острое и опасное переживание мистериальной инициации, и кто это понял, тому писать о другом неинтересно; все становится интересным через это» [1, с. 148]. Далее автор выявляет оптимальную форму мистериальной презентации в стихах: «…самый выигрышный способ описывать мистерию так, чтобы сохранить минимум от ее внешней торжественности, но максимум – от ее мистериальной сущности, состоит в том, чтобы тематизировать свой испуг перед ней, свою слабость и робость» [1, с. 148]. Исследователь наблюдает реализацию этого способа в жертвенном посвящении О. Э. Мандельштама. Перечисляя варианты тематизации аффектов страха в его произведениях (перед болезнью, предсказаниями ранней смерти, космосом, звездами, лесом, ночным морозом, террором, нищетой и немощью), С. С. Аверинцев выяв- ляет амбивалентность в переживаниях поэта. Экстатическое приятие, наслаждение мотивами гибельности и опасности мира интерпретируются как готовность посвящаемого к жизни/ смерти. «Снова и снова – тема казнителя как источника того посвящения, которое нужно поэзии» [1, с. 152]. Через выявление инициа-тической природы страха в творчестве поэта достаточно четко определяется мистическая презумпция, заложенная в основе его поэзии [1, c.148]. Таким образом, в данном случае инициация рассматривается как мистерия.
С позиции участника инициации исследуется «роль женских архетипов в метасюжете инициации героев Ю. Олеши» в одноименной диссертации филолога Ю. А. Лобановой. Автор развивает инициационную версию интерпретации творчества писателя. Исследователь выявляет элементы как мужского возрастного, так и героического посвящения персонажей. Отец героя и женские персонажи маркируются как различные типы инициаторов (антагонист, «мать», «стерва», «кукла» и др.), что позволяет автору четко определить их характеристики и роли в сюжете [5, с. 6–7]. С другой стороны, обнаруживая признаки автоинициации писателя в судьбах персонажей, автор проецирует инициационное действо с литературного сюжета на биографию писателя, выстраивая соответствия между художественными актами и реальными событиями. Путь героя/ художника рассматривается как траектория духовного восхождения и падения личности. Революция в сюжете рассматривается как воплощение инициационного мифа, что «позволяет по-новому взглянуть на проблему ««писатель и власть», т. е. на отношение писателя к революции и советскому государству» [5, с. 4]. В целом творчество Ю. Олеши представлено как единый метатекст, в котором автор творит свой собственный миф об инициации героя. Данный подход позволяет рассмотреть специфику рождения художественного образа.
В исследованиях фольклорных, сказочных сюжетов за внешними действиями героев, как правило, вскрывается завуалированный инициационный мотив их поведения. При дан- ном подходе в литературной основе выделяют трехчастную модель посвящения (отделение-испытание-включение) и выстраивают инициационную логику поведения персонажей. Филолог А. Худзиньска-Паркосадзе в статье «Парадигма инициации в сказке «Василиса Прекрасная», подробно прослеживая процесс преображения героини, расширила трехчастную модель до семи этапов посвящения. Это помогло выявить неожиданные качества героини, соответствующие конкретному виду посвящения. В результате исследователь определяет категорию женского посвящения у Василисы Прекрасной не как возрастную «социальную» (которую в традиционном обществе проходили все девушки перед замужеством), а как специализированную – «мистическую и гносеологическую» (инициацию в ведьмы) [8, с. 101].
Произведения великих отечественных классиков также исследуются в данном ракурсе. Филолог Т. М. Ляшенко в своем исследовании соотносит женскую инициацию молодой царевны в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина с женской инициацией Сонечки Мармеладовой из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Т. М. Лященко выявила общность языковых средств в авторской сказке и в романе, а именно – идентичность инициационных моделей поведения персонажей. По мнению автора, данный подход «открывает возможности для более глубокого понимания идейного содержания произведения», например, объясняет, зачем писатель образ светлой героини Сонечки по сюжету погружает на социальное дно [6].
В научной статье «Сюжет духовной «инициации» героев в романе «Евгений Онегин» философ В. Ю. Даренский анализирует судьбы персонажей романа А. С. Пушкина, используя «инициационный» подход. Автор объясняет, что это «позволяет концептуализировать универсальный, не зависящий от интересов и мировоззрения читателя, принцип воздействия этого произведения на его сознание и миропонимание» [2, с. 214]. Сравнивая литературный анализ с архаической инициацией, исследователь делает об- щий вывод о глубинной экзистенциальной функции литературных инициационных текстов, т. е. порождающих духовную инициацию у читателя за счет предельно концентрированной передачи опыта жизни на грани смерти, как символического «прохождения через смерть» и «второго рождения» [2, с. 217]. То есть притягательность инициаци-онности в сюжете связана с архетипическими основаниями психики читателя, которой требуются инициационные переживания. Таким образом, автор, вслед за психологами, утверждает врожденную потребность человека в инициации. Далее, определяя главное содержание инициации как радикальную личностную трансформацию, В. Ю. Дарен-ский связывает данную особенность инициации со спецификой национальной культуры как «культуры преображения», главный вектор которой направлен не на частное самоутверждение человека, а на его духовное преображение, устремленность к идеалу. Исходя из этого утверждения, В. Ю. Даренский объясняет «незавершенность» романа «Евгений Онегин» потенциальной возможностью «второго рождения» главного героя [2, с. 232]. Автор предлагает свою инициационную типологию персонажей романа: незавершенность преображения души у Онегина; полная «инициация» в соответствии с народным образцом у Татьяны; трагически-романтическая «инициация» у Ленского; «обыденная», наиболее распространенная и весьма бесплодная, «инициация» у Зарецкого; народноподвижническая «инициация» у няни [2, с. 233]. Кроме того, автор переносит признаки инициационного преображения героев в романе на собственную судьбу и творчество А. С. Пушкина. Для нашего исследования особо важным является следующее замечание В. Ю. Даренского: «…в универсальном смысле «инициация» стала научным термином, который уже никак не связан ни с язычеством, ни с первобытной культурой, но обозначает универсальный феномен экзистенциальной трансформации, имеющей место у людей всех без исключения культур…» [2, с. 217].
Помимо литературы «инициационный» подход активно применяется в исследовании зрелищных видов искусства. Театр является самой органичной художественной средой для инициации. История посвящения как культовой практики сохранила память о многообразных формах театрализации ритуала. Но данный вопрос предполагает подробное и многоаспектное исследование.
Здесь же приведем примеры из научной практики киноведения. В статье «Инициация страхом как модель советской киносказ-ки 1960-х годов» П. Ю. Зернова синтезирует сразу несколько подходов, рассмотренных нами выше. С помощью модели инициации ученый сравнивает советское кино 30-х и 60-х гг. Автор, анализируя такие киносказки 30-х гг. (в прямом и переносном смыслах), как «Светлый путь» (реж. Г. В. Александров), трилогию о Максиме (реж. Г. В. Козинцев и Л. З. Трауберг), «Золотой ключик» (реж. А. Л. Птушко), «Кощей бессмертный» (реж. А. А. Роу), замечает умение героев социалистического реализма этого периода изящно и легко бороться со злом, так как «они изначально обладают самыми лучшими качествами истинного Героя – строителя светлого будущего» [4, с. 23]. В советских киносказках конца 50-х – 60-х годов («Старик Хоттабыч», реж. Г. С. Казанский; «Сказка о потерянном времени», реж. А. Л. Птушко; «Королевство кривых зеркал», реж. А. А. Роу) персонажи, проходя через сложные приключения, уже осознают свои несовершенства и исправляются, становясь настоящими советскими героями. В первом случае инициация не наблюдается, она имитируется, так как герой преображает не себя, а окружающий мир, а во втором случае – налицо признаки инициации, совершенствование личности через преодоление своих слабостей и состояния «детства». Именно в нарушении глубинной логики процесса инициации автор находит причину упадка жанра киносказки в 30-е гг. [4, с. 24]. Автор отмечает также интересные идеи С. М. Эйзенштейна о важности ритуального мотива в искусстве в контексте поисков идеальных форм воздействия экран- ного изображения на человека. В частности, С. М. Эйзенштейн указывал, что в основе обрядности лежала абсолютная вера в происходящее, в связи с чем возникало и чувственное, эмоциональное подключение зрителя [4, с. 25]. Потому для установления соответствия обряда со сказкой в киноискусстве советского периода 60-х гг. были найдены новые возможности репрезентации инициации советского человека, связанные с познанием страха. Таким образом, посредством модели инициации и ее элемента «преодоление страха» автор выявил специфику исторической трансформации советского киножанра.
В настоящее время термин «инициация» в значении культовой практики выходит за пределы религиозно-философского и этнографического локусов и активно заимствуется филологами, искусствоведами как инструмент исследования проблем художественной культуры. Сами философы и культурологи находят в этом компромиссное решение проблемы исчезновения инициации как общей системы социализации и инкультурации. Напряжение от непройденной инициации в современном обществе во многом снимает художественная культура как среда реализации инициационных процессов. Между ритуалом инициации и художественной практикой всегда поддерживалась органичная связь. На ранних этапах культурогенеза при формировании ритуала посвящения искусство выполняло служебную роль по отношению к культу. Впоследствии искусство вышло из подчиненной роли, растворив в своей основе инициационное содержание. «Инициационный» подход в современных научных исследованиях художественной культуры позволяет многоаспектно интерпретировать художественный образ. При этом утверждать полную реализацию феномена инициации в данной среде неправомерно, так как на практике реализуются лишь отдельные проявления сложного механизма ритуального комплекса инициации. Тем не менее, его широкие потенциальные возможности активно помогают исследовать феномен человека и проблемы современной культуры и искусства.
Список литературы Инициация в художественной культуре: современные подходы к исследованию
- Аверинцев С. С. Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама / С. С. Аверинцев // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. Записки Мандельштамовского общества. Выпуск 17. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. С. 147-154.
- Даренский В. Ю. Сюжет духовной "инициации" героев в романе "Евгений Онегин" // Studia Litterarum. 2019. Т. 4, № 1. С. 214-235.
- Зайцев П. Л. Чтение и инициация: поиски смысла в ситуации "смерти автора" // Вестник Омского университета. 2019. Т. 24, № 3. С. 80-83.
- Зернова П. Ю. Инициация страхом как модель советской киносказки 1960-х годов // Вестник ВГИК / Т. 12, № 4 (46). 2020. С. 22-31.
- Лобанова Ю. А. Роль женских архетипов в метасюжете инициации героев Ю. Олеши: автореферат дис.... кандидата филологических наук, Барнаул, 2007. 22 с.
- Ляшенко Т. М. Языковые средства, формирующие мотив женской инициации в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" // Филология: научные исследования. 2018. № 4. С. 341-351.
- Прищенко С. В., Цыганова И. В. Сосуд в мифопоэтической традиции: атрибут Бога и актор инициации Героя // Общество: философия, история, культура. 2021. № 11. С. 108-113.
- Худзиньска-Паркосадзе А. Парадигма инициации в сказке "Василиса Прекрасная" // Вестник славянских культур, 2019. Т. 51. С. 99-115.
- Элиаде М. Тайные общества и обряды инициации и посвящения / Москва, София: ИД Гелиос, 2002. 304 с.