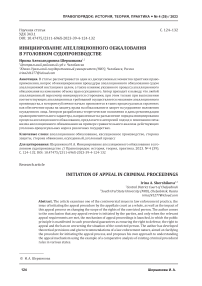Инициирование апелляционного обжалования в уголовном судопроизводстве
Автор: Шершикова И.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 4 (39), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из дискуссионных моментов практики правоприменения, вопрос об инициировании процедуры апелляционного обжалования судом апелляционной инстанции в целом, а также влияние указанного процесса апелляционного обжалования на изменение объема прав осужденного. Автор приходит к выводу, что любой апелляционный пересмотр инициируется сторонами, при этом только при выполнении соответствующих апелляционных требований осуществляется механизм апелляционного производства, в котором публичное начало проявляется в таких процессуальных гарантиях как обеспечение права на защиту, права на обжалование и запрет на ухудшение положения осужденного лица. Автором разработаны теоретические положения и даны рекомендации правоприменительного характера, направленные на разъяснение порядка инициирования процесса апелляционного обжалования, предлагается авторский подход к пониманию механизма апелляционного обжалования на примере сравнительного анализа действующих уголовно-процессуальных норм в различных государствах.
Апелляционное обжалование, кассационное производство, сторона защиты, сторона обвинения, осужденный, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14129369
IDR: 14129369 | УДК: 343.1 | DOI: 10.47475/2311-696X-2023-39-4-124-132
Текст научной статьи Инициирование апелляционного обжалования в уголовном судопроизводстве
Положениями действующего уголовного процессуального закона презюмируется, что любой апелляционный пересмотр инициируется сторонами, и только при наличии соответствующих апелляционных требований запускается механизм апелляционного производства, в котором публичное начало проявляется в таких процессуальных гарантиях как обеспечение права на защиту, права на обжалование и запрет на ухудшение положения осужденного лица.
При этом инициирование апелляционного обжалования стороной защиты является одновременно и реализацией права на обжалование и права на повторный пересмотр уголовного дела, так и права на защиту. В свою очередь, оба этих процессуальных правомочия стороны защиты в условиях апелляционного производства обеспечиваются установленной законом процессуальной гарантией в виде запрета «поворота» к ухудшению положения осужденного, реализуемой в рамках рассматриваемой стадии уголовного процесса с определенными особенностями.
Описание исследования
Публичное начало уголовного процесса, являясь системообразующим звеном, отражается как на взаимодействии указанных прав и процессуальных гарантий, так и на действии принципов диспозитивности и состязательности сторон, принципа законности. Подобные переплетения процессуальных категорий свидетельствует о сложности стадии инициирования апелляционного обжалования.
Напомним, что право обвиняемого на защиту включает в себя не только право пользоваться помощью защитника, но и право защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами, в том числе давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению либо отказаться от дачи таковых; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать объяснения и показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно, в случаях, когда обвиняемый не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство; участвовать в ходе судебного разбирательства в исследовании доказательств и судебных прениях; произносить последнее слово; приносить жалобы на действия, бездействие и решения органов, осуществляющих производство по делу; знакомиться в установленном законом порядке с материалами дела1.
В силу ст. 19 УПК РФ действия (бездействие) и решения, в том числе суда, могут быть обжалованы в порядке, установленном законом, а каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом, также в порядке, установленном законом2.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — УПК РФ) ограничивает полномочия других участников процесса, кроме автора жалобы, только правом на подачу письменных возражений (ст. 389.7 УПК РФ) в то время, как понятие «встречная жалоба» в современном отечественном уголовном процессе полностью отсутствует [1, с. 22].
Об этом указывалось А. С. Александровым и Н. Н. Ковтуном еще при обсуждении проекта УПК РФ 1999 года, как и об отсутствии указания на то, что иной «апеллятор» (например, потерпевший) может просто присоединиться к апелляционному отзыву другого «апеллятора», сформулировавшего в своей жалобе сходные (в своей юридической или фактической части) требования [2, с. 61].
Примечательно, что понимание апелляции как процесса обжалования в разрезе сравнительного анализа процессуальных норм синонимично в других государствах, например, уголовно-процессуальное законодательство Французской Республики предусматривает понятие «встречной апелляции». Так, в случае подачи апелляции одной из сторон в течение срока обжалования другой стороне предоставляются дополнительные 5 дней на подачу встречной апелляции (ст. 500 УПК ФР). При этом отзыв заявителем жалобы влечет вынесение не подлежащего обжалованию постановления о непринятии апелляции (ст. 505-1 УПК ФР). Отзыв осужденным или гражданским ответчиком основной апелляции влечет недействительность встречных апелляций (ст. 500-1 УПК ФР) [3, с. 25–28].
В то же время процессуальное право ФРГ в рамках кассационного пересмотра предусматривает, что документ, содержащий кассационное обжалование, должен быть доставлен противной стороне, которая свободна в своём решении в течение одной недели подать встречное заявление в письменной форме. При этом подсудимый может подать это заявление путём занесения его в протокол, составляемый в канцелярии суда1.
Полагаем, что возражения на жалобу как форма реакции на инициированное другой стороной апелляционное производство не равнозначно полноценной «встречной» или апелляционной жалобе соответствующего участника процесса, поскольку, во-первых, какие-либо правовые условия таких возражений не содержатся в нормах УПК РФ, в отличие от апелляционной жалобы или представления, основные требования к содержанию которых указаны в ст. 389.6 УПК РФ; во-вторых, требование об отмене или изменения обжалуемого решения не может быть заявлено в форме возражений, такое правомочие указано только применительно к апелляционной жалобе и представлению (п. 4 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ).
Однако процессуальная возможность присоединиться к апелляционному обжалованию, инициированному другой стороной, на наш взгляд должна быть. Это не только позволит избежать дублирования подготовительных действий судами обеих инстанций2 [4, с. 191] но и будет способствовать снижению количества последующих кассационных обжалований, если участник процесса может присоединиться к апелляционным требованиям, быть заслушанным в том же судебном заседании, даже в случаях, когда пересмотр инициирован противоположной стороной и тем самым сможет выразить свое мнение по состоявшему судебному решению.
Такая реализация права на апелляционное обжалование влияет и на последующий порядок кассационного пересмотра (в порядке «сплошной» или выборочной кассации, соответственно). В совокупности наличие возможности присоединения или подачи встречного требования/заявления/жалобы/представле-ния будет способствовать полноценной однократной процедуре обжалования в каждой из имеющихся стадий пересмотра (одна апелляция, одна кассация и т. д.).
В рамках инициирования апелляционного обжалования в науке отмечается «сомнительная» практика подачи стороной защиты формальных «трафаретных» апелляционных жалоб на приговоры, постановленные в особом порядке, рассчитывая на возможную отмену или изменение приговора со смягчением наказания. Указывается об отсутствии ограничения по обжалованию итогового судебного решения [5, с. 145–147]. Полагаем, что постановление приговора в особом порядке не должно исключать право на его апелляционное обжалование, пусть даже по формальным основаниям, эта гарантия обеспечивает справедливое судебное разбирательство по упрощенным порядкам в том числе.
Стороны, инициируя апелляционное производство по уголовному делу, действуют в рамках принципа состязательности и диспозитивного начала, выражая свою позицию по делу, приводя доводы и имея право на представление новых доказательств, что проявляется в активном использовании своих процессуальных прав3.
Вместе с тем, право на защиту может быть реализовано и в виде пассивного поведения в стадии апелляционного обжалования — не инициирование апелляционного обжалования в случае, если в решении суда первой инстанции интересы осужденного учтены максимально выгодно для него.
С другой стороны, в рамках действия принципа публичности, суд апелляционной инстанции, невзирая на ревизионные начала, связанные с возможностью полной проверки независимо от доводов сторон, ограничен специальной процессуальной гарантией для стороны защиты — запрет на принятие решения, ухудшающего положения лица, привлекаемого к уголовной ответственности ( non reformatio in peius 1) [6, с. 82].
Напомним, что согласно ст. 389.24 УПК РФ, решения суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. Допускается принятие решения, ухудшающего положения осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции только по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом суд не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления2.
Ограничение в определенных случаях возможности принятия решений, ухудшающих положение лица, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, является одним из проявлений благоприятствования защите ( favor defensionis 3) [7, с. 295] в уголовном процессе. Принцип недопустимости поворота к худшему ( non reformatio in peius ) является составной частью института поворота к худшему, но не исчерпывает его. Он находит свое действие в проверочных стадиях уголовного процесса и означает, что суд вышестоящей инстанции вправе вынести решение, сопряженное с поворотом к худшему для лица, в отношении которого ведется или велось производство по уголовному делу, только при наличии требования об этом, отраженного в жалобе, представлении участников процесса [8, с. 19, 49].
Несмотря на ревизионное начало, суд апелляционной инстанции не вправе свободно и по своему усмотрению ухудшить положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности. В случае если при проверке судом апелляционной инстанции выявлены нарушения, о которых не указано в апелляционной жалобе или представлении, однако которые влияют или ставят под сомнение законность и обоснованность обжалуемого решения, суд апелляционной инстанции вправе самостоятельно обозначить такие нарушения и закрепить их в рамках своего апелляционного судебного акта, только в случае, если это улучшает положение привлекаемого к уголовной ответственности лица. Соответственно, проверка уголовного дела судом апелляционной инстанции допускается только в сторону улучшения положения лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Исключением из данного правила выступает наличие в жалобе или представлении сторон довода о принятии решении судом апелляционной инстанции, ухудшающим положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Л. В. Головко указывает, что фактически суд апелляционной инстанции обязан действовать строго в рамках доводов жалобы (представления) только в одном случае — если речь идет о принятии решения, ухудшающего положение осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено [9, с. 1095].
Судебная практика выработала критерии понятия «ухудшение положения» путем определения понятий «более тяжкое преступление» и «усиление наказания». Изменением обвинения на более тяжкое считаются случаи, когда: а) применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи или пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание; б) в обвинение включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому действия, влекущие изменение квалификации преступления на закон, предусматривающий более строгое наказание, либо увеличивающие объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного4.
При новом рассмотрении дела в суде первой или апелляционной инстанции после отмены приговора в связи с нарушением права обвиняемого на защиту, а также по иным основаниям, не связанным с необходимостью ухудшения положения обвиняемого, также не допускается применение закона о более тяжком преступлении, назначение обвиняемому более строго наказания или любое иное усиление его уголовной ответствен-ности1.
Соответственно, после отмены приговора при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции положение осужденного может быть ухудшено только по тем основаниям, которые непосредственно поставлены в апелляционном представлении или жалобе потерпевшего на первоначальный приговор [10, с. 61]. В отсутствие иных инициаций апелляционного пересмотра от участников процесса, в случае отмены состоявшегося судебного решения по жалобе осужденного в его интересах, положение последнего не может быть ухудшено и при новом пересмотре уголовного дела судом первой инстанции2 [11, с. 289–290].
Этот вопрос имеет большое принципиальное значение, поскольку от его решения зависит свобода обжалования судебных приговоров подсудимыми, право подсудимых оспаривать правильность их осуждения, не опасаясь, что в результате их жалобы получится ухудшение их положения, усиления примененного к ним наказания [11, с. 289–290].
В литературе справедливо указывается, что инициатива, содействие суда в преобразовании положения уголовно-преследуемого лица в любом виде должно быть исключено, как выполнение функции обвинения, в связи с чем, суд апелляционной инстанции не должен по своей инициативе реагировать и в ревизионном порядке исправлять ни нарушения процессуального характера, ни очевидные нарушения фактического характера, которые влекут преобразование к худшему положение осужденного, оправданного [12, с. 221].
Как нами отмечалось ранее, УПК ФРГ предусматривает запрет на reformatio in peius , то есть в ущерб подсудимому приговор не может быть изменен в отношении вида и размера правовых последствий деяния, если апелляция инициирована только стороной защиты или прокуратурой в пользу подсудимого или его законным представителем3. Аналогичное правило содержится и в Чешском уголовном процессе, в котором не допускается ухудшение положения обвиняемого при изменении квалификации деяния на более тяжкий состав преступления (в том числе посредством возвращения уголовного дела прокурору) [13, с. 73].
В этом аспекте интересной является процессуальная ситуация, при которой, например, судом апелляционной инстанции выявлена ошибка, допущенная в пользу осужденного (вместо опасного рецидива судом первой инстанции установлен простой рецидив), но при этом, апелляционное обжалование инициировано только стороной защиты. Суд апелляционной инстанции в отсутствие жалобы потерпевшего или представления государственного обвинителя, не вправе самостоятельно устранить выявленное нарушение и ухудшить тем самым положение осужденного.
Таким образом, допущенное судом первой инстанции нарушение не устраняется, приговор вступает в законную силу после апелляционного обжалования.
Предложенная процессуальная ситуация иллюстрирует смежность рассматриваемых принципов в виде обеспечения права на защиту обвиняемого и его права на обжалование. При этом данная связь указанных принципов иллюстрирует и одно из ограничительных свойств принципа публичности, предусматривающего запрет на поворот к ухудшению положения осужденного. Не наступление негативных последствий для осужденного обусловлено гарантией не ухудшения его положения по инициативе суда апелляционной инстанции. Обратное бы не обеспечивало разделение функций сторон в состязательном процессе, поскольку гипотетическое самостоятельное полномочие суда апелляционной инстанции на ухудшение положение осужденного лица нарушало бы принцип состязательности, в виду принятия на себя апелляционным судом не свойственной ему функции стороны обвинения1 [14, с. 264].
В случае, если ни потерпевший, ни государственный обвинитель не усматривают оснований для апелляционного пересмотра, но при инициировании такового стороной защиты, остальные участники процесса могут среагировать и принят участие в апелляционном пересмотре, реализовав свое право на обжалование, в том числе с приведением доводов на ухудшение положения осужденного лица. Можно предположить, что в случае, если осужденным при относительно благополучном для него исходе дела (с позиции назначенного наказания), не инициировалось бы обжалование судебного акта, то его относительно благоприятное положение (учтенный при назначении наказания рецидив вместо опасного рецидива) могло сохраниться. Означает ли это, что осужденный, реализуя свое право на обжалование в отсутствие апелляционных жалоб, представлений иных участников процесса при этом рискует своим текущим положением по приговору в рамках своего же права на защиту?
Конституционный суд РФ указывает, что правило non reformatio in peius означает применительно к стадии апелляционного производства запрет изменять или отменять приговор нижестоящего суда непосредственно решением апелляционной инстанции по неблагоприятным для подсудимого основаниям по его жалобе или жалобе, поданной в его интересах. Указанное регулирование обусловлено необходимостью обеспечить права на судебную защиту, на обжалование в суд решений государственных органов и на пересмотр приговора вышестоящим судом надлежащими гарантиями их беспрепятственного осуществления в условиях реальной свободы обжалования. Это предполагает отсутствие у стороны защиты причин опасаться того, что инициированная ею процедура апелляционного производства тем или иным образом приведет к принятию судебного акта, ухудшающего положение подсудимого по сравнению с обжалуемым актом. Наличие подобных опасений значимым образом осложняло бы принятие стороной защиты решения об обжаловании не вступившего в законную силу приговора, вызывая своего рода «охлаждающий эффект» (chilling effect) в стремлении реализовать данное право либо даже вынуждая отказаться от его реализации. В таких условиях риск возможного изменения положения подсудимого в неблагоприятную для него сторону после проверки приговора, проведенной по его же жалобе, мог бы стать фактором, препятствующим реализации им конституционного права на обжалование приговора и рассмотрение его дела как минимум двумя судебными инстанциями2.
Вместе с тем, на наш взгляд, сохраняется опасение, что при любом апелляционном обжаловании приговора может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного лица, что, безусловно, является своеобразным «бонусом» стороны обвинения в борьбе за справедливое разрешение уголовного дела.
При этом, ограничение принципа публичности в виде отсутствия самостоятельного полномочия у апелляционной инстанции на ухудшение положения осужденного, на наш взгляд не устраняет потенциальной угрозы изменения его положения на менее благоприятное, учитывая право стороны обвинения на приведение доводов об ухудшении положения осужденного, а равно оправданного лица. Даже в рассматриваемом случае, когда приговор, содержащий ошибку в пользу осужденного, вступил в законную силу после апелляционного обжалования, не исключается его кассационное обжалование.
Отметим, что в случае инициирования кассационного производства с доводами об ухудшении положения осужденного, одной из его возможностей сохранить свое положение в рассматриваемой ситуации, является условие о критичности допущенных нарушений в предшествующих судебных разбирательствах. Достаточно ли для этого только ссылки государственного обвинителя в представлении об этом или требуется аргументировать данный довод, представив соответствующее обоснование, учитывая, что «фундаментальность» предполагаемых нарушений, допущенных нижестоящими судами, является оценочной категорией, не имеющей каких-либо четких критериев?
Неправильное применение уголовного закона, повлекшее ошибочное назначение судом наказания в пользу осужденного является ли искомым фундаментальным и критичным нарушением, требующим возобновления первоначального судебного разбирательства или повторного апелляционного пересмотра? Неоднозначна в этом случае передача уголовного дела на новый апелляционный пересмотр, поскольку возникает вопрос о реализации в такой ситуации другой процессуальной гарантии — запрета на повторное осуждение лица за одно и то же преступление.
Напомним, что согласно положениям п. 16 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» с учетом требований ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ суд апелляционной инстанции может принять решение, ухудшающее положение осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе как по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом суд не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления1.
В рамках обсуждаемой процессуальной ситуации прокурором инициируется кассационное производство, адресованноеe суду кассационной инстанции, а не апелляционной, тогда как вопрос ставится о передаче уголовного дела на новый апелляционный пересмотр, в рамках которого об ухудшении положения осужденного не заявлялось.
Можно предположить такое процессуальное разрешение ситуации для исправления положения, если судом апелляционной инстанции было допущено необоснованное улучшение положения подсудимого. В этом случае новый апелляционный пересмотр позволил бы апелляции самой исправить допущенные нарушения и восстановить законность своего же решения. Но в случаях, когда улучшение положения подсудимого допущено судом первой инстанции, не устранено судом апелляционной инстанции, при обжаловании в которой об ухудшении положения и не было заявлено, имеет ли право апелляционный суд руководствуясь кассационным решением ухудшить положение осужденного? С другой стороны, суд первой инстанции также весьма ограничен в своих процессуальных возможностях.
В такой ситуации фактически предъявляются новые апелляционные требования об ухудшении положения осужденного, отсутствовавшие при первоначальном апелляционном пересмотре.
Схожая ситуация и в случаях неправильной квалификации действий подсудимого. Однако, недостаточный профессионализм работников органов предварительного расследования, ненадлежащий прокурорский надзор за следствием, а равно отсутствие должного внимания государственного обвинения к качеству уголовного дела не могут служить, на наш взгляд, основанием для ухудшения положения осужденного в случае неправильной квалификации преступления в его пользу вышестоящими судами.
Такое положение приводит к тому, что осужденный пребывает в нестабильном процессуальном положении, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение. Его судьба окончательно не может быть определена в виду рассматриваемых полномочий суда кассационной инстанции, что, в свою очередь, ставит под сомнение и правило стабильности окончательного судебного решения, вступившего в законную силу.
Как бы ни было, полагаем, что в случае, когда ухудшение положения осужденного связано с квалификацией его действий и оценкой фактических обстоятельств уголовного дела требуется исследование доказательств и проведение судебного следствия2 [8, с. 16]. При этом не усматриваем процессуальной целесообразности в проведении полного судебного следствия в случаях, когда ухудшение положения осужденного связано с неправильным назначением, исчислением или зачетом наказания нижестоящими судами.
Наряду с обозначенной проблемой отметим следующий аспект. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд вне зависимости от доводов жалобы или представления проверяет, имеются ли предусмотренные статьей 389.15 УПК РФ основания отмены или изменения судебного решения, не влекущие ухудшение положения осужденного (оправданного). Установив наличие таких оснований, суд апелляционной инстанции в силу положений ч. 1 и 2 ст.389.19 УПК РФ отменяет или изменяет судебное решение в отношении всех осужденных, которых касаются допущенные нарушения, независимо от того, кто из них подал жалобу и в отношении кого принесены апелляционные жалоба или представление1.
Отметим, что в Чешском уголовном судопроизводстве если приговор постановлен в отношении нескольких лиц, а жалобу подал один из них, то апелляционный суд проверит его только в отношении такого обвиняемого [15, с. 51].
УПК Грузии содержит правило ревизионных начал апелляционной жалобы, согласно которому если апелляционная жалоба подана осужденным и суд удовлетворяет ее полностью или частично, апелляционная инстанция обязана обсуждать её и в отношении других осужденных приговором по данному делу лиц, которые апелляционные жалобы не подавали2.
Вывод
Придерживаясь мнения о том, что необходимо предоставлять возможность присоединится к апелляционному обжалованию, инициированному другим участником процессе, полагаем, что такое правомочие апелляционной инстанции, базирующееся на публичных началах, не должно иметь препятствий в реализации. Данные ревизионные полномочия позволяют обеспечить справедливое судебное разбирательство с одной стороны, и стабильность судебного решения с другой стороны, исключая возможности для последующих кассационных обжалований по таким доводам.
Список литературы Инициирование апелляционного обжалования в уголовном судопроизводстве
- Везденев К. Е. Апелляционное обжалование приговора: проблемы подготовки и оценки содержания жалоб и представлений: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2022. 22 с.
- Александров А. В., Ковтун Н. Н. Апелляция в русском уголовном судопроизводстве. Нижний Новогород, 1999. 108 с.
- Алтынникова Л. И. Правовое регулирование апелляционного производства по уголовным делам во Французской Республике // Российская юстиция. 2019. № 5. С. 25–28.
- Спиридонов М. С. Кассационная проверка итоговых судебных решений в уголовном процессе России: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2020. 253 с.
- Везденев К. Е. К вопросу об обоснованности апелляционных жалоб и пределах прав апелляционной инстанции // Молодой ученый. 2022. № 10 (405). С. 145–147.
- Сомов В. П. Латинско-русский юридический словарь. Москва: ГИТИС, 1995. 104 с.
- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: около 50 000 слов. Москва: Русский язык, 1976. 1096 с.
- Килина И. В. Поворот к худшему при пересмотре приговоров и иных итоговых решений суда в апелляционном порядке: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2019. 216 с.
- Головко Л. В. Курс уголовного процесса. Москва: Статут, 2017. 1100 с.
- Вдовин С. А. Обеспечение права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2020. 350 с.
- Строгович М. С. Уголовный процесс: учебник. Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. 350 с.
- Будылин Н. В. Запрет на поворот к худшему в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2023. 340 с.
- Тузов А. Г. Проверочные производства в уголовном процессе Чешской Республики: дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2022. 380 с.
- Вдовин С. А. Обеспечение права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2020. 340 с.
- Тузов А. Г. Проверочные производства в уголовном процессе Чешской Республики: дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2022. 300 с.