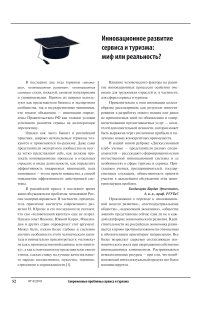Инновационное развитие сервиса и туризма: миф или реальность?
Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 4 т.4, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140206039
IDR: 140206039
Текст краткого сообщения Инновационное развитие сервиса и туризма: миф или реальность?
Однако как часто бывает в российской практике, широко используемые термины толкуются и применяются по-разному. Даже сами представители экспертного сообщества не всегда четко представляют себе, как должны протекать инновационные процессы в отдельных отраслях и видах деятельности, как определить эффективность внедряемых инноваций, ведь инновации — это не просто новшества, а способ повышения эффективности действующей системы.
В российской прессе в последнее время живо обсуждаются и проблемы, мешающие России модернизироваться. В частности, председатель правления института современного развития И. Юргенс и его последователи считают, что сам «человеческий капитал» еще не созрел. Однако опыт Японии, Южной Кореи, Финляндии и других стран опровергает этот аргумент. Может быть, нужно более глубоко и системно изучить особенности этого человеческого капитала и внимательно присмотреться к «человеку» не как к производственной единице или «винтику», а как к полноценному представителю своего этноса, сделав ставку на лучшие качества нашего народа: коллективизм, мужество, терпение, стремление к справедливости [1].
Влияние человеческого фактора на развитие инновационных процессов особенно очевидно для трудоемких отраслей и, в частности, для сферы сервиса и туризма.
Применительно к ним инновации целесообразно рассматривать как результат инвестирования в разработку нового знания или ранее не применяемых идей по обновлению и совершенствованию предоставляемых услуг — носителей дополнительной ценности, которая может быть выражена через увеличение прибыли и получение новых конкурентных преимуществ.
В нашей новой рубрике «Дискуссионный клуб» ученые — представители разных специальностей — рассуждают о формировании основ отечественной инновационной системы и ее особенностях в сфере туризма и сервиса. Приглашаем ученых, предпринимателей, государственных служащих, общественность принять участие в дальнейшем обсуждении этих животрепещущих проблем.
Багдасарян Вардан Эрнестович, д. и. н., проф. РГУТиС
Прокламации о переходе к «инновационной модели развития», «постиндустриальному обществу», «наукоемкой экономике», «обществу знаний» представлены сейчас едва ли не в каждой платформе экономического развития. В действительности же российская экономика развивается в прямо противоположном по отношению к обозначенным ориентирам направлении. Все более возрастает сырьевая составляющая экономического роста при свертывании собственно инновационных компонентов. Растрачиваются невосполняемые ресурсы — при том, что возобновляемый интеллектуальный продукт все более минимизируется.
Научные знания в современном мире выходят на первое место в факторной иерархии экономического развития. Доля влияния научных знаний на мировой экономический рост составила в последней трети ХХ в., по разным оценкам, от 57 до 79% его факторной обусловленности. Для иллюстрации их значения для современной экономики достаточно привести пример стремительного повышения продуктивности сельскохозяйственного производства. Так, использование результатов селекционной революции привело к двукратному повышению урожайности зерновых в развивающихся странах. В странах Азии и Южной Америки она возросла в 3 раза, с 11 ц/га в середине ХХ в. до 32 ц/га в конце столетия.
Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет лишь 0,3%. Это в 8,5 раз ниже, чем удельный вес российского ВВП. Данное положение не соответствует претензиям России на статус великой экономической державы. Она продает инновационного продукта в 130 раз меньше, нежели США. То, что сегодня является высокотехнологической продукций, со временем составит потребительский стандарт. Поэтому показатель в 0,3% есть предупреждение — «набат» о том, до какого уровня может понизиться значение российской экономики в мире при сохранении существующей модели государственной политики.
Казалось бы, сама постановка вопроса об инновационном развитии назрела. Однако…
Риторика современного российского дискурса вокруг инноваций реанимирует времена обязательных цитат из постановлений партийных съездов. На словах — инновации, на практике — усугубляющиеся процессы сы-рьевизации и архаизации. В речах — призывы к инновационному прорыву, тогда как в реальности — патологическая боязнь перемен.
Еще будучи кандидатом в президенты России, Д. А. Медведев сформулировал свою экономическую программу следующим образом: «Мы должны сконцентрироваться на своеобразных четырех «И» — институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях». И вот, возникла острая потребность эти самые инновации представить. Правда, никто не знал, что это такое. Каких-то внятных руководящих пояснений свыше не имелось. Поэтому каждый стал представлять, что мог. Вновь оказалось востребовано искусство истолкования слов высшего руководства. Все теперь отчитываются за инновации, при том, что сам предмет отчетности никому не известен. Абсурд, достойный пера классиков сатиры.
Каждый новый день не похож на предыдущий. Каждый из них приносит нечто новое, чего не было прежде. Нововведения в профессиональной деятельности, будь то сервис или туризм, также есть непрерывный процесс. В этом смысле инновация есть онтологическое свойство жизни, соотносимое с явлением изменчивости. Выдвигать инновационность в качестве критерия успешности при такой постановке вопроса бессмысленно. Но это очень удобно, если решать задачу выделения финансовых средств заранее известному адресату. Смотри опыт Сколково.
Что же подразумевается в современной России под инновационно-активной организацией? Так, Центр исследований и статистики науки берет за основу своих статистических выкладок следующее определение: «Инновационно-активные организации — организации, проявившие в период обследования активность в области создания инноваций вне зависимости от того, привела ли эта активность к реальному появлению инновации. Фактически это организации, имеющие в отчетном году затраты на инновации независимо от степени их завершения». Такая формулировка предоставляет широкие возможности для имитации инновационности в условиях отсутствия реальных технических и технологических нововведений.
Каждый хозяйствующий субъект может быть таким образом интерпретирован и как «инноватор», и одновременно как «ретроград». Ключевым становится право интерпретации. А оно в руках достаточно определенной группы лиц — «капитанов инновации». Все предельно банально: говорим инновационность, подразу- меваем «распил». Не ради ли этого пресловутого «распила» и затевался проект инновационного развития? Этот вопрос порождает другой. А разве сегодня что-то серьезное на уровне государства затевается иначе?
Цель в очередной раз подменяется средствами. Катастрофический опыт перестройки, по-видимому, ничему не научил. Инновации преподносятся как самоценность. Затемняется между тем вопрос об их целевом назначении. Не всякая инновация целесообразна. В зависимости от целей определяется то, в чем должны состоять инновации и в чем заключаться приверженность традиции. Всеобщая инноватиза-ция означала бы на практике мгновенное обрушение всей системы.
Жизнеспособность систем состоит в оптимизационном сочетании категорий изменчивости и преемственности. Если феноменологическим выражением изменчивости выступают инновации, то преемственности — традиции. Успешность системы заключается в их гармоническом сочетании. Ставка исключительно на традиции означает консервацию, отставание в технологическом развитии и в конечном итоге — проигрыш в конкурентной борьбе. Абсолютизация инновационности ведет к подрыву фундамента, разрушению базовых механизмов жизнеустойчивости. Исход в обоих случаях один — гибель системы.
Сегодня латентный бренд брежневизма путинского периода сменяется брендом перестройки. Эксперты говорят о реализации проекта «перестройка — 2», с аналогичными по опыту СССР последствиями уже для России. Инновациям в нем отводится роль ложной стратагемы (стратегической ловушки). Ну, кто против инноватизации? Под вывеской инноваций же будет вестись целенаправленная ломка российских традиционных укладов цивилизационного бытия. Кампания этой «инновационной» ломки уже запущена. Чем как не инновацией по отношению к национальной системе является «болонский процесс»? Насколько очевидна его инновационость, настолько ясны и связанные с ним подрывные для государства и народа по- следствия. Россию в очередной раз пытаются перестроить под шаблоны Америки. Вчера американизация страны выражалась демагогической связкой — перестройка — реформы, сегодня — модернизация — инновации.
Нужны ли России инновации? Принятие лукавой категории (она была выбрана не случайно) выводит автоматически на всю логическую цепочку трансформации страны по западным лекалам. В советское время говорили не об инновациях, а о внедрении в профессиональную деятельность результатов НТР. Именно о такой постановке вопроса и следует вести речь. В остальном же России сегодня нужна не столько инновационность, сколько ретради-ционализация — восстановление национальных традиций и цивилизационно-ценностных накоплений.
Орлов Игорь Борисович, д. и. н., проф. ГУ ВШЭ
Хотелось бы обратить внимание на то, что в западной традиции понятие «инновация» рассматривается, прежде всего, как коммерциализованное новшество, обладающее высокой эффективностью . Другими словами, речь идет о введении на рынок товаров и услуг с новыми потребительскими свойствами или о качественном повышении эффективности производственных систем. Инновация представляет собой некий материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, новые формы организации труда, обслуживания, управления и т. п. То есть «новизна» инноваций оценивается по технологическим параметрам и с рыночных позиций. При этом инновационный процесс сужается до следующей цепочки: инвестиции — разработка — процесс внедрения — получение качественного улучшения.
Именно в такой логике было выстроено определение инновации, которое давала «Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы»: «Инновация (нововведение) — конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствован- ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности».
Между тем в российской традиции под инновацией чаще всего понимается некая новая творческая (креативная) идея по обновлению разных сфер жизни людей . То есть инновационность не связывается с получением организатором инновации какой-либо выгоды. При таком подходе инновация рождается в треугольнике «наука — образование — практика» и имеет смысл только при устойчивом взаимовлиянии этих сфер. Например, научные разработки в области туристских технологий должны внедряться как в деятельность туристских фирм, так и в систему туристского образования. В свою очередь, туристское образование должно быть ориентировано на подготовку кадров, способных не только к освоению новых технологий, но и к их генерированию. И, наконец, практика туристских организаций должна создавать устойчивый спрос на инновационные технологии и кадры.
Конечно, все это не отменяет ни необходимости инвестиций, ни конкуренции и маркетинга рынка, ни специфической логистики туризма и даже новых брендов. Однако введение в целевое поле инновационной политики таких показателей, как народосбережение и качество жизни населения, обращает внимание не только на коммерческую, но и на оздоровительную и рекреационную составляющую инновационных процессов, а также на роль государства как инициатора, регулятора и инвестора туристской инноватики. Следует признать, что инновации (в том числе, а точнее, прежде всего, в социальной сфере) стимулируются не только потребностями рынка, производства и науки, но и целенаправленной, социально ориентированной государственной политикой. При таком подходе в сфере туризма открываются широкие возможности для государственно-частного партнерства и развития корпоративной социальной ответственности бизнеса. А это, в свою очередь, расширяет потенциал инициации, производства, реализации и продвижения инновационного продукта. Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества облегчает процесс поиска инновационных идей, оптимизирует отбор наиболее перспективных из них (с точки зрения баланса интересов бизнеса, общества и государства) и снижает до минимума коррупционную составляющую экспертизы инновационных предложений.
Несомненно, существует проблема отраслевого «перевода» общего инновационного языка. В частности, для туристских компаний инноватика может быть связана: с организационно-управленческой сферой, состоянием коммуникационных сетей и возможностью применения новых технологий при организации поездок. Сегодня в этот инновационный перечень включаются, прежде всего, глобальные системы бронирования, новые формы поощрения творческой деятельности сотрудников, развитые коммуникационные системы и пр. Продвигая на рынке туристских услуг свой продукт и бренд, компания, как правило, руководствуется оптимальным балансом трех показателей: цены, качества и ассортимента. Что, в свою очередь, задает общие рамки инновационной деятельности в сфере туризма, на практике ограничивая ее информационной, коммуникативной и управленческой (включая новые обучающие программы) областями.
В частности, речь идет о внедрении на российский рынок системы complete travel service, когда розничным компаниям предлагается полный спектр туристского продукта — от бронирования перевозок до продажи пакета услуг. Определенные перспективы повышения конкурентоспособности компаний связываются с созданием совместных предприятий с зарубежными принимающими структурами и заключением эксклюзивных контрактов с гостиничными сетями. Инновационный потенциал содержит расширение новых форм туризма, например, экологического, космического и пр.
Зайцева Наталия Александровна, д. э. н., проф. ИТиГ (филиал) РГУТиС
В сознании многих при слове «инновация» появляется ассоциация, связанная с различными новинками, особенно техническими. Вместе с тем, специалисты в области инновационного менеджмента выделяют обычно два вида инноваций — продуктовые и процессные. Продуктовые инновации действительно обычно связаны с различными новинками — новые туристские продукты, новые необычные гостиничные продукты и т. п. Мне же хотелось бы остановиться именно на процессных инновациях, которые могут быть использованы и уже используются в деятельности предприятий индустрии туризма.
Прежде чем перейти к описанию процессных инноваций и возможностей их использования в индустрии туризма, следует отметить, что существует множество научных школ по инновациям, которые по-разному трактуют те или иные понятия. В отношении процессных инноваций также отсутствуют научно обоснованные рекомендации по их выявлению, учету и исследованию, не разработана система показателей оценки эффективности их использования на предприятиях и влияния на совокупный экономический эффект.
Определяя, что именно можно считать процессной инновацией, можно обратиться, например, к Инструкции по заполнению формы № 4-МП инновация (регион), утвержденной Правительством Московской области 15.01.2007 № 13/51, в которой про- цессные инновации предложено относить к технологическим, при этом в данном документе специально выделено, что организационно-управленческие изменения к процессным инновациям не относятся.
На мой взгляд, это принципиально неправильный подход. Мне ближе позиция Питера Друкера, который писал, что «…прежде всего, инновацию не следует путать с изобретением.
Инновация — это, скорее, экономический, а не технологический термин. Нетехнологические… инновации важны не меньше, чем технологические… Инновация не ограничивается лишь исследованиями и разработкой — она охватывает все составляющие предприятия, все его функции и все виды деятельности… не замыкается исключительно на производстве — инновация в процессе сбыта (распределения) не менее важна…» [2. С. 41–42].
Рассматривая процессные инновации как новые формы управления деятельностью предприятий индустрии туризма, можно отметить, что в последнее время с приходом на российский рынок международных гостиничных сетей все активнее происходят изменения в гостиничном менеджменте.
Основные направления внедрения процессных инноваций в индустрии туризма:
-
• совершенствование организационного проектирования, внедрение органических структур в управлении;
-
• управление бизнес-процессами, инжиниринг и реинжиниринг;
-
• система всеобщего управления качеством (TQM);
-
• внедрение прогрессивных методик оценки эффективности деятельности предприятия (система ключевых показателей эффективности деятельности (KPI), система сбалансированных показателей (BSC));
-
• использование прогрессивных методик подбора персонала, обучения, аттестации и другие направления совершенствования деятельности предприятий.
Однако повсеместно (не только в нашей стране, но и во всем мире), динамика внедрения управленческих инноваций значительно отстает от производственных и продуктовых инноваций. В итоге возникает так называемый «организационный лаг», отражающий этот разрыв и означающий, что внедрение инноваций происходит в условиях старой системы управления. Понятно, что это приводит к снижению эффективности внедрения даже самых прогрессивных инноваций (а чаще — их особенно).
Чему следует уделить особое внимание при реализации каких бы ни было инноваций, так это подготовке коллектива к этому процессу. Именно поэтому в последнее время особую популярность в научных и не только кругах получила тема преодоления сопротивления персонала при внедрении изменений. Хотя на самом дела эта проблема стара как мир, подтверждением чему является высказывание Ник-колло Макиавелли (1469–1527 гг.): «Надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни стал выступать с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые» [3. C. 104].
Поскольку в индустрии туризма роль человеческого фактора очень высока, то говоря об успешности инновационного процесса, следует, на мой взгляд, уделять больше внимания именно тому, как можно преодолеть сопротивление персонала предприятий индустрии туризма принятию инноваций.
В заключение хотелось бы отметить и еще один актуальный момент — выбирая инновационный путь развития, руководство предприятий индустрии туризма должно понимать, что это означает, прежде всего, предъявление особых требований к интеллектуальному капиталу предприятий, определяемому в первую очередь уровнем знаний и квалификации сотрудников. Следовательно, должно быть четкое понимание — если не вкладывать средства в человеческий капитал, в т. ч. его обучение, то никакого инновационного развития не будет.
Аманжолова Дина Ахметжановна, д. и. н., проф. ИТиГ (филиал) РГУТиС
Каждая новая эпоха бросает очередной Вызов обществу. Найти на него достойный Ответ, позволяющий нации и государству не просто сохранить себя, но и обеспечить дальнейшее продвижение вперед, выживаемость, физическое и нравственное здоровье, преемственно бережное отношение к достоянию предков и способность к постоянному обновлению адекватно вечно меняющимся обстоятельствам, в истории человечества смогли далеко не все народы и страны. У России в этом смысле много общего с другими странами, но не меньше, если не больше, оригинального исторического опыта — великого, счастливого и трагического, предостерегающего и обнадеживающего.
Инновационный потенциал российского общества, как свидетельствуют история и современные замечательные идеи, открытия и изобретения наших соотечественников, поистине огромен. Между тем, только ленивый не говорит сегодня о застарелых «болячках», тормозящих креативные прорывы практически в каждой сфере жизнедеятельности. Причин тому называется немало — дурная организация и вездесущая коррупция, отстающее законодательство и недостаточное финансовое или материально-техническое обеспечение, недобросовестная конкуренция и «утечка умов», и т. д., и т. п. Действительно, все это так, и перечень сей можно продолжить.
Однако найдем ли мы тот «золотой ключик», который откроет нам заветную дверь в волшебную страну умело и эффективно порождаемых и реализуемых инноваций? Наверняка, специалисты предложат не один такой ключик. Мне хотелось бы обратить внимание на совсем не рыночную, но абсолютно обязательную составляющую гарантированного успеха актуальных и перспективных инноваций и модернизаций. Я имею в виду гуманитарное пространство нашей действительности. Жестокие духовные потери 1990-х гораздо сильнее и болезненее, чем разруха в экономике, продолжают влиять на качество культурного ка- питала российской нации. Наиболее важными негативными факторами являются некритическая дискредитация советского образа жизни и культурных ценностей, экономических, политических и социальных институций — а именно они составляли существо всей жизни старших поколений (ярчайший пример — биография успешного менеджера рыночной экономики В. С. Черномырдина); отсюда разрывы в преемственности и в массовом историческом сознании и его мифологизация на основе биполярного необольшевистского противопоставления истории XX века — дореволюционной и общечеловеческой; агрессивная экспансия худших образцов западной массовой развлекательной культуры, прежде всего американизированной; противоречивые эффекты миграции социально незащищенных и криминализированных групп населения соседних стран; «потребительский шок», вызванный вначале тотальным дефицитом, а затем безбрежным предложением главным образом низкосортного ширпотреба и погоней за престижным потреблением; низкая политическая и правовая культура, в т. ч. правовые безграмотность и нигилизм; медленная и травматическая адаптация к современным требованиям личной ответственности при минимизации социальной роли государства и др.
Главными и самыми тяжелыми потерями можно считать дискредитацию в мировоззрении молодежи ценностей труда и ценностей знания при одновременном выдвижении на первый план ценностей потребления. Одна из чувствительных проблем — разрушение инструментов неформального социального контроля над повседневным поведением человека.
Это выражается в широком распространении следующих явлений как норм: примитивизация отношений между людьми; развлекательность, забавность, сентиментальность как основа отношения к досугу и жизни вообще; натуралистическое смакование насилия и секса; культ успеха, сильной личности и жажда обладания вещами; культ посредственности, условность примитивной символики; опора на архетипы, в т. ч. бессознательный интерес всех людей к эротике и насилию. Катастрофическим последствием массовой культуры является низведение творческой деятельности человека к элементарному акту бездумного потребления.
Между тем, многими веками тяжелого труда и борьбы за свою державу наши народы выработали поистине бесценные качества, позволившие прагматичным американцам, как говорят, предложить довольно циничную, но для них, видимо, вполне естественную формулу: «Русские изобретают, китайцы делают, а мы продаем».
На самом деле, именно русским-россиянам в силу разного рода факторов традиционно были свойственны объективно крайне востребованные сегодня, но далеко не осознаваемые нашими восторженными и некритическими почитателями либеральных и рыночных западных ценностей (за этим чаще всего плохо скрывается банальное обывательское преклонение перед манкими соблазнами потребительского комфорта) свойства. Это служение Отчизне и долгу перед ней и народом, это соборный, коллективистский подход к решению самых тяжелых проблем «всем миром», трудолюбие и терпение, потрясающая адаптивность и пластичность культурной матрицы, сохраняющей верность национальным традициям и проявляющей удивительную изобретательность. Это открытость к диалогу, отзывчивость и восприимчивость ко всему новому, в т. ч. западному, и умение солидарно — независимо от этнической и конфессиональной принадлежности — действовать на общее благо. Наконец, это великая способность искренно, верно и трепетно дружить и любить.
Вы скажете — причем тут инновации и тем более в туризме и сервисе? Как известно, всякая традиция — это бывшая инновация, но далеко не каждая инновация становится традицией. В нашей стране традицией может стать лишь базирующаяся на исконно национальной культурной почве инновация. Не случайно мои коллеги — вузовские ученые и преподаватели — практически солидарно отреагировали на доклад Л. Ксавье — директора исследовательской группы центра молодых лидеров, выступившего
25 октября на франко-российском форуме «Инновационные технологии в образовании по направлениям «туризм», «сервис», «гостиничное дело» с докладом «Инновационные подходы к проблеме подготовки кадров».
Речь в нем шла об использовании многажды и успешно апробированной еще в советской высшей школе (сегодня, как становится понятно, ее опыт неоправданно и недальновидно полностью стирается) практики «реального обучения», как выразился Л. Ксавье, путем включения студента в совместную учебно-научную практику под руководством представителя предприятия, ученого и консультанта.
Бесспорно, изюминка в предложенном французами подходе имеется. Выделены 4 направления исследований — социально-коллективное (роль человеческих ресурсов и работа с кадрами), технологии и инновации, вывод на рынок продуктов и услуг, организация инноваций. Методология работы включает несколько этапов: осмысление контекста работы предприятия через сбор информации от каждого сотрудника, формулирование проблем и более конкретных болевых точек, поиск решения путем эксперимента и консультации с руководством предприятия и, наконец, сотрудничество с ассоциацией предприятий для выбора 4 специальных предприятий, намеченных к продвижению инноваций.
Вместе с тем, очевидно, что в российской реальности обозначенные образовательные технологии давно получили свое оригинальное воплощение, а простое копирование зарубежного опыта подготовки кадров сферы сервиса и в т. ч. туризма в российском обществе, доктринально и ценностно ориентированном на принципиально иное понимание услуги, малоперспективно.
Если иметь в виду «длинную историю» и рассчитывать не на утилитарный меркантильный и сиюминутный успех в виде преимущественно «быстрых» денег, а на последовательное и успешное движение вперед, то расстановка приоритетов становится очевидной. Именно, как говорится, «в долгую» выигрывает не тот актор сферы туризма и сервиса, который ру- ководствуется максимально быстрым и потворствующим масс-культурным стереотипам организации быта, досуга и путешествий, а тот, кто мотивирован исключительно благородными и высокими целями. В наш циничный век этот тезис кому-то может показаться наивным. Туристские структуры в условиях коммерциализации и даже утраты общественно значимых ценностей, неразвитости социальной ответственности, которая к тому же «извне» практически не стимулируется, ориентированы на утилитарные цели достижения быстрой прибыли, не требующей дополнительных затрат и усилий (необходимых, например, для пропаганды стратегически и геополитически важных маршрутов внутрироссийских и по странам ближнего зарубежья, да еще для небогатого клиента, эффект от которых, особенно финансовый, неочевиден и наступит нескоро).
В гуманитарной сфере, в т. ч. в сервисе и туризме, необходимо изменение институциональной среды, которое позволит ей развиваться и реагировать на социальную динамику. Стоит напомнить, что еще Манильская Всемирная конференция по туризму 1980 г. подчеркнула, что никакая экономическая рентабельность не может быть критерием степени содействия туризму со стороны государства, а Гаагская декларация по туризму 1989 г. определяет его как основное средство межличностных связей.
Понимание и признание нравственного императива профессиональной деятельности, резкое повышение качества и уровня общегуманитарной подготовки кадров сферы сервиса и туризма в России чрезвычайно актуальны, хотя, к сожалению, далеко не все узкие специалисты, в т. ч. из числа преподавателей вузов, согласны с этим. Между тем, известен опыт тех же западных стран, когда крупные фирмы и банки организуют вечерние курсы по изучению культуры для своих сотрудников, потому что человек, разбирающийся в культуре, будет с большей отдачей производить банковский продукт или лучше создавать формулы для фармакологических препаратов. Нет сомнений в том, что прагматика гуманитарных наук, именно humanities, а не social studies, очевидна, от нее конкретная польза и прибыль.
Принципиально важной культурная и нравственная парадигма подготовки кадров и организации самой сферы сервиса и туризма является для молодежи, на плечи которой ляжет основной груз в практическом воплощении в жизнь инноваций и модернизации. Молодежь, являясь сегодня объектом всесторонней социализации, в то же время становится субъектом модернизации, которую могут реализовать лишь люди моральные, образованные, самодостаточные, имеющие активную жизненную позицию, стремящиеся к социально значимой самореализации, независимые от произвола власти и т. д.
Инновационная модернизация предполагает продуктивное социально-экономическое, политическое, структурно-институциональное, управленческое, технологическое, социокультурное, гуманитарное обновление современного общества и современного человека на основе опережающего, а не догоняющего развития, на основе про-активной стратегии, а не реактивной тактики, происходящее на основе позитивно мотивированной мобилизации широких социальных слоев.
При этом главные задачи модернизации лежат не в техногенной сфере и заключаются вовсе не в компьютеризации образования, не в строительстве «городов будущего» и даже не в развитии нанотехнологий — это инструменты и средства развития. Главные задачи модернизации — это создание современного общества, современных инфраструктур и современного человека — стратегической цели и фундаментального условия сохранения и величия России .
Список литературы Инновационное развитие сервиса и туризма: миф или реальность?
- Соколов-Митрич Д. Болезнь Юргенса//http://www.pravoslavie. ru/smi/39218.htm (дата обращения: 18.09.2010).
- Друкер П. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.
- Лок Э. И., Рис. П. И. Харрис Ф. Х. Макиавелли, маркетинг и менеджмент. СПб.: Питер, 2004.